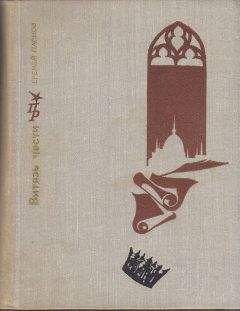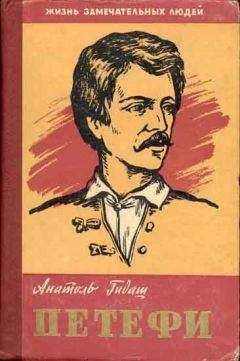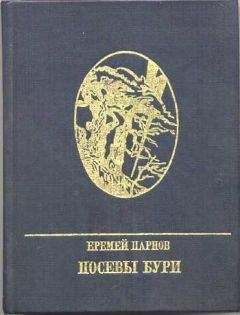Она пошатнулась, прикрывая лицо, и, в поисках опоры, коснулась жалобно заскрипевшей кровати.
— Корнелия! — хлестнул неожиданный окрик из-за дощатой перегородки.
— Что прикажете, мадам? — испуганно вздрогнув, она схватилась сперва за сердце, затем за пылающие виски и выразительно кивнула на стену: «Все слышно».
— Вам пора одеваться. Вы опоздаете.
Сжимая кулаки, Петефи отошел к окну.
— Мы еще продолжим этот разговор, — вымолвил, прижимаясь лбом к холодному, залитому непроглядной синькой стеклу.
— Интересно, когда? — усмехнулась она через силу. — Вы же уезжаете на рассвете, — вздохнула с неожиданной горечью, — Разве не так?
Нелике позволила себе на мгновение забыться, увлечься, но действительность достаточно властно заявила о себе, и приходилось срочно перестраивать неписаные правила игры. Ей и в голову не могло прийти, что для Петефи все развивалось значительно серьезнее. И уж никак не могла вообразить Корнелия Приелль, что даже время, что провели они вместе в этом жалком гостиничном номере, по-разному текло для каждого из них, что за эти считанные часы Петефи пережил целую жизнь, дошел до грани смерти и вернулся к исходной точке, придумав новый поворот. Ее как громом поразило, когда он обреченно заметался в тесном пространстве между письменным столиком, кроватью и вдруг бросился к двери.
— Я не позволю, чтобы глупые обстоятельства распоряжались моей судьбой! — выкрикнул он на прощание.
«Милый мальчик, — сказала она себе, — это всего лишь шутка». И принялась одеваться к вечернему представлению. Но пальцы почему-то дрожали, не слушались. Она едва не опоздала, путаясь в шнуровках, ломая неподатливые крючки. Пунцовая от досады, проклиная все и вся, сорвала напоследок венок, растерла засохшие, ломкие листья.
Как назло, ей предстояло сыграть невесту в «Семи сыновьях Лары», а впору было изобразить разгневанную фурию. «Что со мной? — подумала бедная Нелике. — Неужели и вправду влюбилась?.. Ненавижу, ненавижу себя!»
Но, по-видимому, так уж сложился этот совершенно изумительный сумасшедший день, что за одной неожиданностью следовала другая. Воля поэта, одержимого навязчивым бредом, преображала явления и смещала понятия, опрокидывала условности и снимала запреты.
Это было похоже на колдовство, темное наваждение, роковым образом меняющее привычный мир. Корнелия просто не понимала, что происходит. Но и поэт едва ли сумел бы определить захлестнувшее его чувство. Нечто тайное, долго прятавшееся в сокровенных извилинах, неожиданно вырвалось, расправило крылья и увлекло за собой в головокружительный полет. Не было слов на обычном людском языке, чтобы назвать это властное побудительное движение. Временное помрачение? Упрямый каприз? А может быть, просто любовный удар на французский манер? Ходульные определения, бледные тени ненайденных слов. Поэту трудно быть таким, как все. Преобразованная воображением реальность жестоко мстит за блистательное насилие, размывая нечеткие грани. Пророческая зоркость оборачивается близорукостью школяра, и явь химерически смешивается с мечтою. Из-под пера в такие мгновения срываются чарующие гротески, но не дай господь перепутать с фантазией жизнь. Поэт уподобится лунатику, блуждающему по крышам.
Петефи поклялся себе, что на сей раз все переиначит по-своему. До сих пор судьба упорно разрушала его мечты об идеальной любви, но всему есть пределы. Хватит покорно смиряться с навязанными извне обстоятельствами, пора продиктовать свои условия. Он бунтовал, в сущности, против миропорядка, но думал, заблуждаясь, что сражается за любовь.
Женская всепроницающая интуиция подсказала бедняжке Корнелии, что выбор поэта был во многом случаен. Она просто вовремя подвернулась под руку.
Оглядев перед третьим актом себя в трюмо — белое платье и фата на диво красили и молодили ее, — актриса уронила слезу и понравилась себе еще больше. С мстительной радостью подумала, что сумеет затмить Фелике в любой трагической роли. Кажется, Нелике начинала понимать поэта. Ей показалось даже, что она видит себя сейчас его глазами. Если им суждено еще когда-нибудь встретиться, то она обязательно наденет белое. Напрасно она слушалась эту дуру мадам, желтое вовсе не ее цвет. Белое и только белое, быть может, простеганное серебряной нитью…
— Ах, невеста уже готова? — В зеркале отразилось возбужденное лицо Петефи. — Превосходно. — Он нервно потер руки и остановился у нее за спиной. Суетные мысли мигом вылетели из головы Корнелии. Вот уж сюрприз, так сюрприз! Она прикрыла глаза и суеверно коснулась дерева подзеркальника, заставленного бесчисленными флаконами и баночками. Фантасмагория длилась.
— Жених тоже, кажется, на месте? — справившись с внезапным волнением, подыграла Нелике. — Священника только недостает.
— За ним дело не станет, — пылко заверил поэт. — Стоит вам лишь слово сказать… Вы действительно согласны?
— Пожалуй, — протянула она, проникаясь неуверенной мыслью, что для него все обстоит гораздо серьезнее, чем это могло показаться.
— Ждите меня здесь! Я возвращусь еще до того, как закончатся ваши «Семь стенаний Лары».
— «Семь сыновей»…
— Пусть сыновей, отцов, матерей… Мне безразлично! Разве вы не видите, что со мной? Я совершенно потерял голову… Не уходите без меня из театра, Корнелия. Мы сегодня же обвенчаемся. — Он припал к ее руке и, как это уже было сегодня, стремительно кинулся к двери.
Она понимала, что происходит непоправимое, что ей нужно остановить его, задержать, но не было сил пошевелить даже пальцем. Слова воспринимались замедленно, едва задевая сознание.
— Куда тебя несет? — возмутился Ференц Дюлаи, которого поэт едва не опрокинул в узком коридорчике.
— За пастором! Скорей домучивайте свою пьесу и готовьтесь к свадебному пиру. Сегодня мы с Корнелией венчаемся и приглашаем всех, кто нас любит! — поспешно объяснил Петефи и убежал.
Одетый мавром Дюлаи с выпученными глазами ворвался к Корнелии. Долго не мог обрести дар речи и лишь беззвучно разевал рот.
Корнелия не выдержала и расхохоталась. Напряжение требовало разрядки, и она долго не могла успокоиться.
— Это правда? — наконец смог спросить Дюлаи, кивнув на оставшуюся открытой дверь.
— Наверное, — пряча глаза, пожала плечами Корнелия. — Откуда я знаю.
— Он сумасшедший! — уверенно заявил непревзойденный трагик. — Но ты, Нелике, ты-то куда смотрела?
— Ах, оставь, — она передернула плечами. — Я совсем ничего не понимаю… Пусть будет, как будет.
— Разве ты не видишь, что он не в себе? — Дюлаи опустился прямо на пол у ног Корнелии. — Это горячка, которая завтра пройдет. — Он едва успевал вытирать пот с черного и жирного от грима лица. — Опомнись, Нелике! Вы оба будете жестоко раскаиваться.
Возразить было нечего, Стиснув зубы — ее начала бить холодная дрожь, — Корнелия встала с пуфика и, шатаясь, проковыляла к софе. Упала ничком и, не выдержав напряжения, разрыдалась.
Когда Нелике немного пришла в себя и смогла сделать несколько глотков из услужливо поднесенного стакана, в уборной собралась чуть ли не вся труппа. Судя по хмурым, встревоженным лицам, актеры уже знали новость, и она не слишком обрадовала их. Одна только Фелике взирала на Корнелию с жалостью и пониманием.
— Скажи нам, что вы пошутили. — Она вынула кружевной платочек, принялась вытирать заплаканное лицо подруги. — Правда? — продолжала увещевать, испытующе заглядывая в глаза. — По крайней мере, не сегодня, не сейчас? — И упала вдруг на колени, умоляюще осыпая поцелуями злополучное белое платье.
В комнате стало так тихо, что, когда забренчал — в который раз — колокольчик, актерам показалось, будто возвестили конец света, а не начало нового действия.
— На выход, господа, на выход, — потребовал обеспокоенный антрепренер, обрывая трудное объяснение. Чувства чувствами, а играть надо. Нетерпеливая публика ждет. И топает ногами, и возмущается, и свистит…
Когда Корнелия в наряде невесты выходила на сцену, Петефи что было мочи стучался в ставни Тота Кёневеша, смиренного протестантского пастора, привыкшего ложиться с наступлением тьмы, а вставать с петухами.
— Что вам угодно, сударь мой? — осведомился наконец заспанный служитель господа, приоткрывая дверь. Был он в ночном колпаке и защищал от ветра зажженную свечку.
— Я хочу обвенчаться.
— Превосходно. Приходите завтра с утра.
— Я уезжаю на рассвете. Мне нужно немедленно.
— Невозможно, сударь. — Пастор сделал движение закрыть дверь, но Петефи проворно просунул ногу. — Протестантская обрядность препятствует венчанию при свечах. Мы не какие-нибудь католики, милостивый государь, так-то, и предпочитаем для совершения таинства божий день.
Вновь судьба жестоко мстила поэту. Он проваливался в бездну в ту самую минуту, когда таким близким виделся зенит. Поражение казалось нестерпимым: Корнелия ждет, они дали друг другу слово, и все обрушивалось из-за упорного противодействия абсолютно чуждых, непостижимых сил.