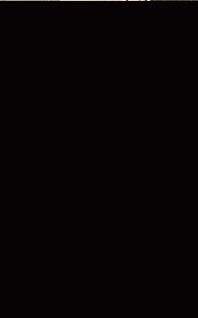Он - человек действия; ежедневная полемика помогла ему обрести уверенность в себе: он любит бороться; и пыл его так неистов, что он иногда опрокидывает препятствия, прежде чем успевает заметить их; он - сила, которая все рушит...
Что ж! Церковь нас проклинает, она предает анафеме самые важные явления нашей жизни; и ей мы вверяем наших детей? Чем объяснить такое заблуждение? Уж не тайной ли надеждой, что дети, став взрослыми, легко избавятся от привитых им суеверий? Нет? Тогда как же расценить подобное лицемерие? Как ошибаются те, кто думает, будто разум, созрев, легко освободится от этого дурмана! Разве вы не знаете, как сильна вера ребенка?.. Увы, человеку, на которого религия с детства наложила свой отпечаток, не дано освободиться от нее одним движением плеч, как от изношенной или ставшей тесной одежды! Восемнадцать веков добровольного рабства подготовили благодатную почву для воспитания религиозного чувства в детях; оно переплетается с другими чувствами, влияющими на формирование ума и характера ребенка. Освобождение от веры - процесс всегда длительный, непоследовательный, часто неполный, всегда болезненный. А многие ли в существующих условиях находят в себе силу и мужество приступить к полному пересмотру своих воззрений? Я ведь остановился лишь на одной стороне проблемы: я рассмотрел опасность религиозного воспитания только в отношении отдельного человека. Но оно непосредственно угрожает и обществу. В наше время, когда вера у всех поколеблена, крайне опасно допускать, чтобы религиозные догматы переплетались в детской душе с правилами морали. Ибо, если дети привыкли рассматривать правила общественной жизни только как божественные установления, то в день, когда вера в бога будет поколеблена в их душе, вместе с нею рухнут и нравственные устои и моральные принципы, которым они следовали. Я вкратце изложил, какой опасности мы подвергаем своих детей, когда ведем себя как беззаботные или слабовольные отцы. Какими громкими словами можно оправдать наше безразличие? Я знаю, что вы ответите... Мы великодушно провозгласим нейтралитет! Трудно выполнить наш долг, я признаю это. Но не следует обманываться словами... Хотя противники и упрекают нас в частом нарушении нейтралитета, - как будто преподавание может быть нейтральным, - на самом деле он связывает только нас! Нейтралитет сегодня это отступление перед яростной пропагандой церкви.
Это ложное положение длится слишком долго. Надо честно признать неизбежность борьбы - великой борьбы нашей эпохи. И лучше вести ее публично, на равных началах, а не тайно. Если священники пользуются правом открывать школы и внушать детям, будто мир сотворен из ничего за шесть дней, будто Христос - сын бога отца и матери-девственницы, будто он сам по себе восстал из могилы через три дня после погребения и вознесся на небо, где с тех пор восседает по правую руку бога, то и мы вправе открывать школы и доказывать в них, опираясь на разум и науку, на каких невероятных суевериях держится до сих пор католическая вера! Если истину и заблуждение поставить в равные условия, победа будет на стороне истины! Да, мы за свободу, но не только за свободу священника на уроках катехизиса, но и за свободу разума, за свободу ребенка!
С горящим взглядом подходит он к краю эстрады; голова его высоко поднята, руки протянуты вперед.
Я хочу, дорогие друзья, закончить этим призывом: "Свободу ребенку!" Я хочу разбудить ваше сознание, я хочу уловить в ваших глазах блеск новых решений! Вспомните о том, сколько мы выстрадали, искореняя в себе прошлое... Вспомните о нестерпимых муках, терзавших нас... Вспомните о наших бессонных ночах, о нашем внутреннем бунте, о наших полных отчаяния исповедях... Вспомните о наших страданиях и о наших молитвах.
Пожалейте своих сыновей!
III. Несчастный случай: холодное прикосновение смерти
В том же году, несколько месяцев спустя.
На площади Мадлен Баруа подзывает фиакр.
Баруа. В "Сеятель", на Университетскую улицу.
Он захлопывает дверцу.
Экипаж не трогается с места. Удар кнутом; лошадь брыкается.
Скорее! Я спешу...
Снова удар кнутом. Молодая норовистая лошадь перебирает ногами на месте, становится на дыбы, вскидывает голову и стрелой летит вперед.
Она проносится по улице Руаяль, одним духом пересекает площадь Согласия и мчится по бульвару Сен-Жермен.
Четыре часа дня. Оживленное движение.
Кучер сидит, упираясь ногами; он уже не в силах сдержать животное, он с трудом справляется с ним.
Медленно плетущийся трамвай преграждает дорогу.
Пытаясь обогнуть его, кучер направляет экипаж налево, на свободный рельсовый путь. Он не заметил встречного трамвая...
Невозможно замедлить бег... Невозможно проскочить между двумя трамваями.
Баруа, помертвев, откидывается на подушки. В одно мгновение он почувствовал, насколько он беспомощен в этом движущемся ящике; неотвратимость неизбежного, как молния, пронизывает его.
Он шепчет: "Богородица, дева, радуйся..."
Адский грохот разлетевшихся вдребезги стекол...
Смертоносный удар.
Мрак.
Несколько дней спустя.
У Баруа; день клонится к вечеру.
Вольдсмут неподвижно сидит на стуле, возле окна; читает.
Баруа лежит в постели; его ноги до бедер - в гипсе. Всего несколько часов назад он пришел в сознание; и уже в десятый раз мысленно воспроизводит случившееся:
"Было еще место, если бы этот, справа, не пошел быстрее...
Успел ли я почувствовать прикосновение смерти? Не знаю.
Я испугался, ужасно испугался... И потом этот скрежет затормозившего трамвая..."
Он невольно улыбается: так нелепо думать о смерти, ощущая в себе кипение жизни, вновь обретенной жизни!
"Любопытно, до чего ж страшно умирать!.. Почему так боятся полного уничтожения всякой способности мыслить, воспринимать, страдать? Почему так боятся небытия?
Быть может, страшит только неизвестность? Ощущение смерти для нас, очевидно, нечто совершенно новое: ведь никто не может унаследовать ни малейшего представления о нем...
И все же ученый, у которого остается еще несколько секунд на размышление, должен покориться неизбежности без большого труда. Если хорошо понимаешь, что жизнь - лишь цепь изменений, зачем же страшиться еще одного изменения? Ведь это не первое... Вероятно, и не последнее...
И потом, когда ты сумел прожить свою жизнь в борьбе, когда что-то оставляешь после себя, о чем жалеть?
За себя я твердо уверен: я уйду спокойно..."
Внезапно лицо Баруа передергивается. Страх подавляет его. Мысленно он вновь пережил тот ужасный миг и вдруг вспомнил вырвавшиеся у него слова: "Богородица, дева, радуйся..."
Прошел час.
Вольдсмут в той же позе переворачивает страницы.
Паскаль приносит лампу; он закрывает ставни и подходит к хозяину; приятно смотреть на плоское гладко выбритое лицо этого швейцарца, с широко раскрытыми светлыми глазами.
Но Баруа не замечает Паскаля: взгляд его неподвижен; мозг лихорадочно работает, мысли необыкновенно ясны: так бывает ясен горный воздух после грозы.
Наконец напряжение от умственного усилия постепенно исчезает с его лица.
Баруа. Вольдсмут...
Вольдсмут (поспешно поднимаясь). Больно?
Баруа (отрывисто). Нет. Выслушайте меня. Сядьте рядом.
Вольдсмут (щупает его пульс). Вас лихорадит... Лежите спокойно, вам нельзя говорить.
Баруа (высвобождая руку). Садитесь сюда и слушайте. (Гневно.) Нет, нет, мне надо говорить! Я не все рассказал вам... Я забыл самое главное... Вольдсмут! Знаете ли вы, что я сделал в тот миг, когда почувствовал себя на краю гибели? Я воззвал к богоматери!
Вольдсмут (стараясь успокоить его). Забудьте обо всем этом... Вам надо отдохнуть
Баруа. Вы думаете, я в бреду? Я говорю серьезно и хочу, чтобы вы меня выслушали. Я не успокоюсь, пока не сделаю того, что должен сделать...
Вольдсмут садится.
(Глаза Баруа блестят, на скулах - красные пятна.) В это мгновение я, Жан Баруа, ни о чем другом не думал, я был охвачен безумной надеждой: всем своим существом я умолял святую деву совершить чудо! (С мрачным смехом) Да, дорогой, после этого есть чем гордиться! (Приподнимается на локтях.) И, понимаете, теперь меня преследует мысль, что это может повториться... Сегодня вечером, ночью, разве могу я отныне за себя ручаться? Я хочу кое-что написать, заранее отвергнуть. Я не успокоюсь, пока не совершу этого.
Вольдсмут. Хорошо, завтра, я обещаю. Вы мне продиктуете...
Баруа (непреклонно). Сейчас, Вольдсмут, сейчас, слышите? Я хочу написать сам, сегодня же! Иначе я не усну... (Проводя рукой по лбу.) К тому же, все уже обдумано, я не устану... Самое трудное сделано...
Вольдсмут уступает. Он устраивает Баруа на двух подушках, подает ему перо, бумагу. А сам стоит возле кровати.
Баруа пишет, не останавливаясь, не поднимая глаз, прямым и твердым почерком: