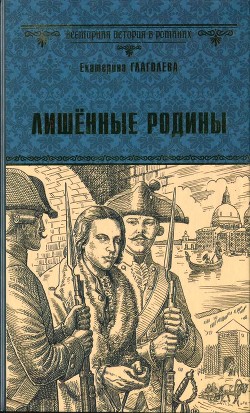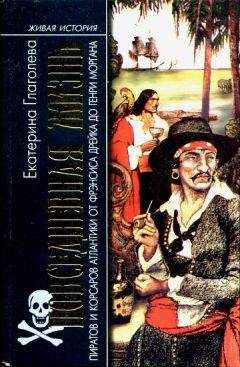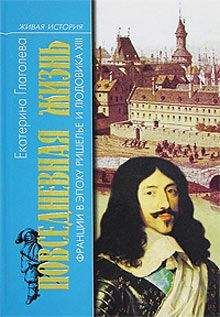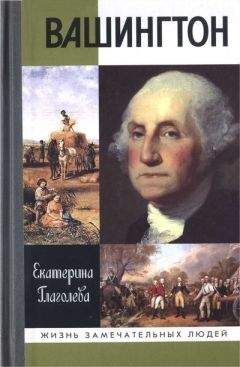Все его доходы ныне не превышают сорока тысяч рублей за год, на будущий год и того не наберется, а ведь раньше одно лишь Кобринское имение приносило пятьдесят тысяч в год! Видно, управляющий Корицкий и другие офицеры что-то утаивают, а как это выяснить, когда он тут, в Кончанском, под неусыпным надзором? Да и сам он не денежник, а воин. За богатством никогда не гнался, но интриги! С воцарением Павла дали ход множеству исков против фельдмаршала, накопившихся в прошлое царствование: и от гражданских лиц, и по армейским делам, — на сто пятьдесят тысяч рублей! (Это всё князь Репнин воду мутит — не мог позабыть гродненского ожидания… Надо было тогда вернуться… Ну да Бог с ним, подлость — свойство людей невысокого ума, зачем же до них опускаться.) Невинность не терпит оправданий, судиться он не станет. Он всю свою жизнь отдал Отечеству и славе его. Но ведь у нас известно — «кто кого смога, так тот того в рога». А лучше голова долой, нежели утратить свою честь.
В общем, всё богатство Суворова состоит в жалованных бриллиантах, наделанных в Санкт-Петербурге мундирах да серебряных ложках, выписанных из Москвы. Но все эти вещи остались в Кобрине, когда ему спешно пришлось оттуда выехать, у подполковника Корицкого, а тот из доверия вышел. Как бы не пропало что. Фельдмаршальский жезл, большая и малая шпаги, орденские звезды, табакерки и прочие драгоценные побрякушки — всего наберется на триста тысяч рублей с лишком, но кто их доставит сюда? И там держать опасно, и везти боязно — край разбойничий… В общем, нужно послать в Кобринский ключ надежного человека, чтобы навел порядок в делах, лихоимства прекратил, подаренные офицерам деревни вернул, Корицкого заменил и бриллианты сюда доставил.
Оде-де-Сион еще плохо говорил по-русски, но короткие, рубленые фразы Суворова он понимал — в основном благодаря интонации, звучанию голоса, взгляду, их дополняющему. Он коротко поклонился и сказал, что, если его высокопревосходительство окажет ему свое доверие, он согласен принять на себя эту обязанность. Суворов подпрыгнул: вот молодец!
Деньги, деньги нужны. Граф Николай Зубов не доволен тем, что приданое Наталки еще до конца ему не выплачено, но с тою выплатой можно повременить, а вот вдова генерала Арсеньева, скончавшегося на неделю прежде государыни, осталась с детьми в крайней нужде. Да, это тот самый Арсеньев, который в Вильне революцию проспал, но он же прежде того отличился при штурме Измаила, выступая во главе колонны, и покрыл себя ранами и славой; сам Суворов тогда представил его к награждению орденом Святого Георгия третьей степени. Ныне сын его Дмитрий, семнадцати лет, служит корнетом в лейб-гвардейском Конном полку, на содержание офицера-кавалериста уйма денег надобна. Старшая дочь Екатерина выпустилась из Смольного института и пожалована в фрейлины императрицы; приданым ее Мария Федоровна обеспечит, но у Веры Ивановны еще три дочери-подростка, им тоже нужно хорошее воспитание — учителя, гувернантки… Генеральша Арсеньева подала просьбу императору о вспомоществовании, но ответа не получила; ее долги взялся выплатить Суворов, хотя у самого денег в обрез. Так что Николай Александрович обождет: слава Богу, не нуждается.
Разрешение на переезд в Ровное было получено; Каролина отправилась туда вместе с семейством фельдмаршала, а ее муж в тот же день выехал в другую сторону — в Кобринский Ключ. Поручение Суворова не стало для него неожиданностью: во временные управляющие его рекомендовал граф Зубов, он же и дал майору свои инструкции перед отъездом: не вызывая подозрений, поставить дело так, чтобы не выплаченные строптивым тестем суммы дошли по назначению. Был у Оде-де-Сиона и собственный интерес. Ведь он оказался среди девятнадцати офицеров, согласившихся на «вольную и сытную» жизнь за счет суворовских мужиков. В отставку он был вынужден подать, чтобы не потерять места воспитателя Аркадия: император строго запретил фельдмаршалу использовать офицеров в личных целях. Думал выгадать, а прогадал. Подаренная ему деревенька оказалась совсем захудалой, Оде трижды просил Суворова заменить ее, но тщетно. А он ведь остался в России не для того, чтобы служить до гробовой доски из-за куска хлеба. Он должен составить себе приличное состояние и обзавестись доходным поместьем. Раз он ошибся в выборе покровителей, надо действовать самому и на сей раз не оплошать.
Свои бриллианты Суворов получил через два месяца, двадцать первого сентября. Их привез в Кончанское шляхтич Тимофей Красовский, служивший в Кобрине адвокатом. С ним же Оде-де-Сион передал три тысячи рублей, сообщив, что всего предполагает собрать не более десяти тысяч, офицеры же подаренные деревни возвращать отказываются.
***
— Который час? — промычал Понятовский, щуря глаза на свет канделябра.
— Начало шестого, ваша светлость.
Камердинер сам был заспанным и одетым наспех. Холера ясна! Князь Станислав встал, побрызгал себе в лицо водой из фарфорового умывальника, промокнул полотенцем. Неужели дело настолько неотложное, что нужно было вскакивать на заре?
Когда он, завязав на ходу витой пояс зеленого атласного шлафрока с цветочным орнаментом и шаркая домашними туфлями без задников, вошел в кабинет, подавляя зевок, князь Куракин — безупречно одетый, причесанный, напудренный и даже благоухающий сладкими духами, — поставил на рабочий стол один из принесенных им портфелей, больше напоминавший чемодан, и собрался вынимать оттуда бумаги.
— Послушайте! — остановил его Понятовский. — Постараемся объясниться. Бесспорно, в это дело вкралось недоразумение. Сделайте же мне удовольствие, скажите, откуда оно произошло.
Вчера после ужина государь отвел князя Станислава в сторону и сказал ему по-русски, чтобы их не подслушал крутившийся рядом прусский посланник:
— Вы знаете, насколько я люблю поляков, но я только что получил однородные донесения от всех генерал-губернаторов, что все землевладельцы Подольской, Волынской, Брацлавской и Киевской провинций отказались доставлять фураж и провиант для армии. Я приказал, чтобы все имения были секвестированы.
При слове «секвестированы» Понятовский похолодел: в Киевской губернии, в Богуславском уезде, находилось его корсуньское имение, которое он рассчитывал выгодно продать и уехать наконец в Рим. Сделав над собой усилие, он улыбнулся, стараясь сохранять спокойное выражение лица:
— Ваше величество, мне это кажется просто невероятным. Верно, тут кроется какое-нибудь недоразумение.
— Все донесения тождественны, — отрезал Павел. И добавил, предупреждая новые возражения князя: — Вы сможете убедиться в этом сами! Завтра утром я пришлю к вам князя Куракина, он покажет вам подлинники.
Император всегда ложился спать в десять часов; пока Понятовский вернулся из дворца домой, просмотрел кое-какие бумаги, совершил вечерний туалет и наконец улегся в постель, минула полночь; он не мог предположить, что Куракин помчится исполнять поручение государя с первыми лучами солнца. И потом, читать всё то, чем набиты его чемоданы, просто бессмысленно. Наверняка это какие-нибудь кляузы, чернильные испражнения мелких, трусливых душонок, или написанные деревянным языком рапорты тупых солдафонов, у которых устав вместо мозгов. Куракин мнется; на его всё еще красивом, хотя и отяжелевшем от последствий эпикурейства, лице написано замешательство. Значит, Понятовский прав: тут что-то не так, и Куракин об этом знает.
— Ну говорите же!
— Вы ведь знакомы с Илинским, камергером его величества? — спросил вице-канцлер надтреснутым голосом. — Он ваш соотечественник…
— И что же?
— Когда его величество был еще великим князем, он говорил, что крайне не одобряет подобного рода поставок провианта и фуража и уничтожил бы их. Илинский об этом слышал… и когда государь вступил на престол, он обратился к своим друзьям и знакомым с письмами, в которых извещал их, что его величеству угодно, чтобы эти поставки не производились более… и этим враз остановил снабжение войск.
Большие глаза Понятовского округлились.