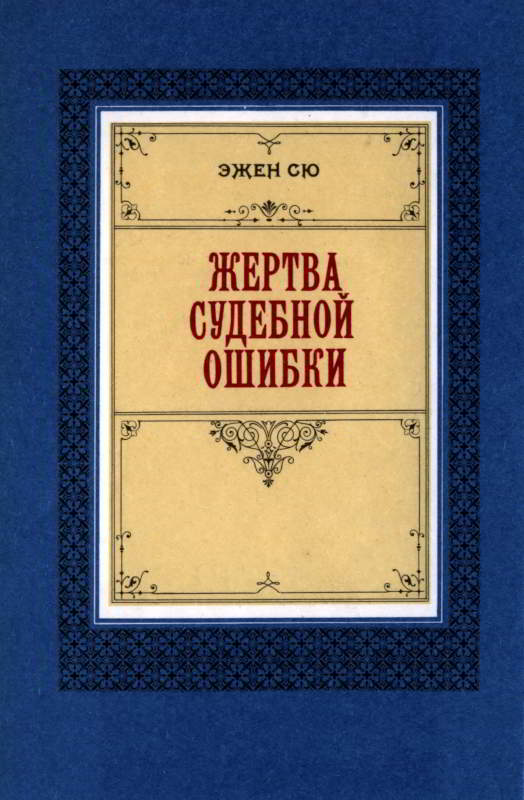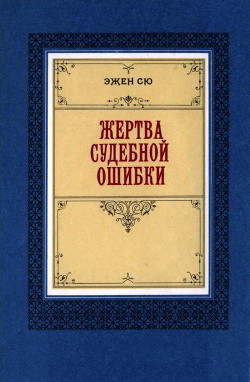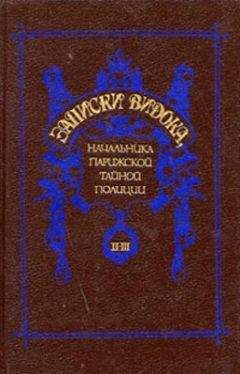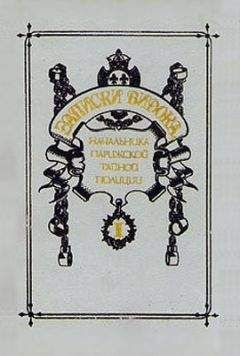доме, то имел двойную цель. Не припомнишь ли черное домино, с которым я разговаривал в ложе на балу, когда вы отыскали меня?
— Помню.
— Ну, интриговавшее меня домино по воле случая… нет, по воле провидения или божьего правосудия, оказалось дочерью князя. Она — герцогиня, очень мила, молода и замечательно хороша собой, но заносчива и высокомерна, как все женщины ее породы.
Помолчав с минуту, Дюкормье продолжал:
— Да, она — надменная, великосветская дама. И, однако, в один прекрасный день… может быть, скоро… я скажу князю: «Я взялся служить вам, но лишь для того, чтобы защитить моих друзей от ваших низких происков. Я напросился жить в вашем доме, но лишь для того, чтобы соблазнить вашу дочь. Так-то-с, князь. Вы хотели внести позор и горе в семью ничтожных людишек, как вы зовете их, и вот я, ничтожный человек, внес позор и несчастье в ваш знатный дом!» И, знаешь, Жозеф, при ком я хочу сделать князю это признание? При тебе и при твоей жене, потому что он придет сюда; у меня есть план насчет этого.
— О, — вскричал Фово с выражением жестокой радости, — признаюсь, это даже лучше, чем перебить ноги старому разбойнику! Не правда ли, Мария?
— Мой друг, мне кажется… — кротко возразила молодая женщина, не поднимая глаз.
— Что такое? Что тебе там кажется?
— Эта молодая дама, которую мсье Анатоль хочет соблазнить и опозорить… не виновата в подлостях своего отца.
— A-а, в самом деле? — спросил Жозеф с насмешливой улыбкой. — У тебя доброе сердце! Ты сострадательна к людям, которые хотят опозорить и тебя, и меня!
— Жозеф, дай мне объяснить мою мысль.
— Довольно, — сказал Жозеф грубо, — я не нуждаюсь в твоем позволении, чтобы отомстить, как хочу. Это касается только нас с Анатолем. Я думал, что ты отнесешься горячей к нашей чести.
— Боже мой, Боже мой! Нынче в первый раз в жизни он говорит со мной так грубо! — сказала несчастная женщина, поднося платок к глазам.
Жозеф обратился к Анатолю:
— Такая месть мне нравится, в ожидании лучшей.
— Теперь ты понимаешь, Жозеф, почему я взял с тебя слово ничего не говорить Жерому? У него свои идеи, и я их уважаю, но у меня также есть свои. Когда я рассказывал ему о пренебрежении, от которого давно уже страдаю в большом свете, то он отвечал мне (и ты, Жозеф, одобрил его): «Чего ради переносить пренебрежение? Оставь это общество и забудь его оскорбления».
— Ну, конечно. Между нами говоря, это отчасти верно.
— Да, верно, с точки зрения Жерома и с твоей, и очень просто, потому что вы не знаете ужасной муки, какую перенес я. Но теперь, когда и тебе пришлось испытать горечь подобных обид, думаешь ли ты, что их можно забыть?
— Забыть их? Никогда! Да, когда меня не касались эти оскорбления, то я думал, как Бонакэ. Но теперь, когда жестоко оскорбили мою честь, я понимаю, что можно отдать всего себя ненависти. Жерому легко рассказывать, потому что он не испытал подобной обиды, легко советовать другим забыть!
— И, наконец, Жером женился на женщине из высшего общества; она даже в родстве с князем, а, следовательно, и с его дочерью, герцогиней. Итак, понимаешь, Жозеф, что узнай Бонакэ наш план, он не скрыл бы его от жены, а та вполне естественно, из фамильного самолюбия…
— Поспешила бы предупредить князя, провались он в преисподнюю, и он прогнал бы тебя.
— И поручил бы уже не такому, как я, преследовать твою жену. А ты знаешь, к каким несчастьям могло бы это повести.
— Стой, Анатоль, я скорей позволю изрубить себя на куски, чем откажусь от нашего плана. Нет, нет, Жером ничего не узнает, я дал тебе честное слово, мой друг.
И Жозеф, обратясь к Марии, прибавил повелительным тоном:
— Слышишь ты, ни одного слова ни Жерому, ни его жене, когда увидимся с ними.
— Однако, Жозеф…
— А! Ты берешь сторону князя! — вскричал несчастный, потому что ревность начала уже ожесточать ему сердце и затемнять рассудок. — А! Ты становишься на сторону этой старой канальи, которая хотела опозорить тебя? Так и будем знать!
— Мсье Анатоль, — сказала Мария рыдая, — слышите, слышите, что говорит Жозеф? Осмелиться сказать, что я беру сторону князя?
— Простите ему: он с горя сам не знает, что говорит. Но я вместе с Жозефом думаю, что ни Бонакэ, ни его жена ничего не должны знать: это необходимо для успеха дела.
— Мария, обещаешь ты сохранить все в тайне от Бонакэ и от его жены?
— Мой друг…
— Отвечай, обещаешь ли? Черт возьми! Да ты хочешь, что ли, свести меня окончательно с ума? Не довольно мне разве горя, которому ты же причиной?
— Я причиной? Боже мой, я?
— Слушай, Мария, — продолжал Фово зловещим, угрожающим тоном, — если ты сию минуту не поклянешься мне честным словом не говорить ни слова обоим Бонакэ, то я иду к князю, провались он в ад, и задушу его! Выбирай между этим и тем, что предлагает Анатоль.
Марию испугала страшная решимость, отразившаяся на лице мужа; желая предотвратить беду, она ответила глухим голосом:
— Даю слово ничего не говорить о ваших проектах ни Бонакэ, ни его жене.
В эту минуту вошла служанка и сказала Фово:
— Сударь, там дама спрашивает барыню. Это жена г-на Бонакэ.
— Скажите, что жены нет дома. Ступайте.
— Но я сказала, что барыня здесь с вами.
— Ну, так и скажите, что вы ошиблись, что никого нет дома.
— Жозеф, г-жа Бонакэ догадается, что это ложь, — заметила Мария умоляющим голосом, — вспомни, как она принимала нас.
— Обидится она или не обидится — мне все равно. А вы исполняйте, что вам приказывают, — сказал Фово прислуге.
Прислуга отправилась исполнять приказание.
— Несмотря на резкость, Жозеф прав, сударыня, — сказал Анатоль Марии, которая заливалась слезами, — вы вот плачете, и г-жа Бонакэ спросила бы вас, что вас огорчило, и эти вопросы поставили бы вас в затруднение. Ну, Жозеф, прощай. Мужайся и надейся: мы будем отомщены!
Дюкормье ушел от Фово и отправился в Марэ к г-же Дюваль.
В это время у клиентки доктора Бонакэ происходила следующая сцена.
Бледная, ослабевшая, но спокойная и улыбающаяся г-жа Дюваль сидела в постели и с интересом слушала письмо, которое читала ей дочь у изголовья ее постели. Это было то самое письмо, которое три дня назад Анатоль Дюкормье передал вместе с кипсеками от подруги детства Клеманс, Эммы Левассер, жившей гувернанткой у лорда Вильмота.
Клеманс на минуту остановилась и сказала матери с