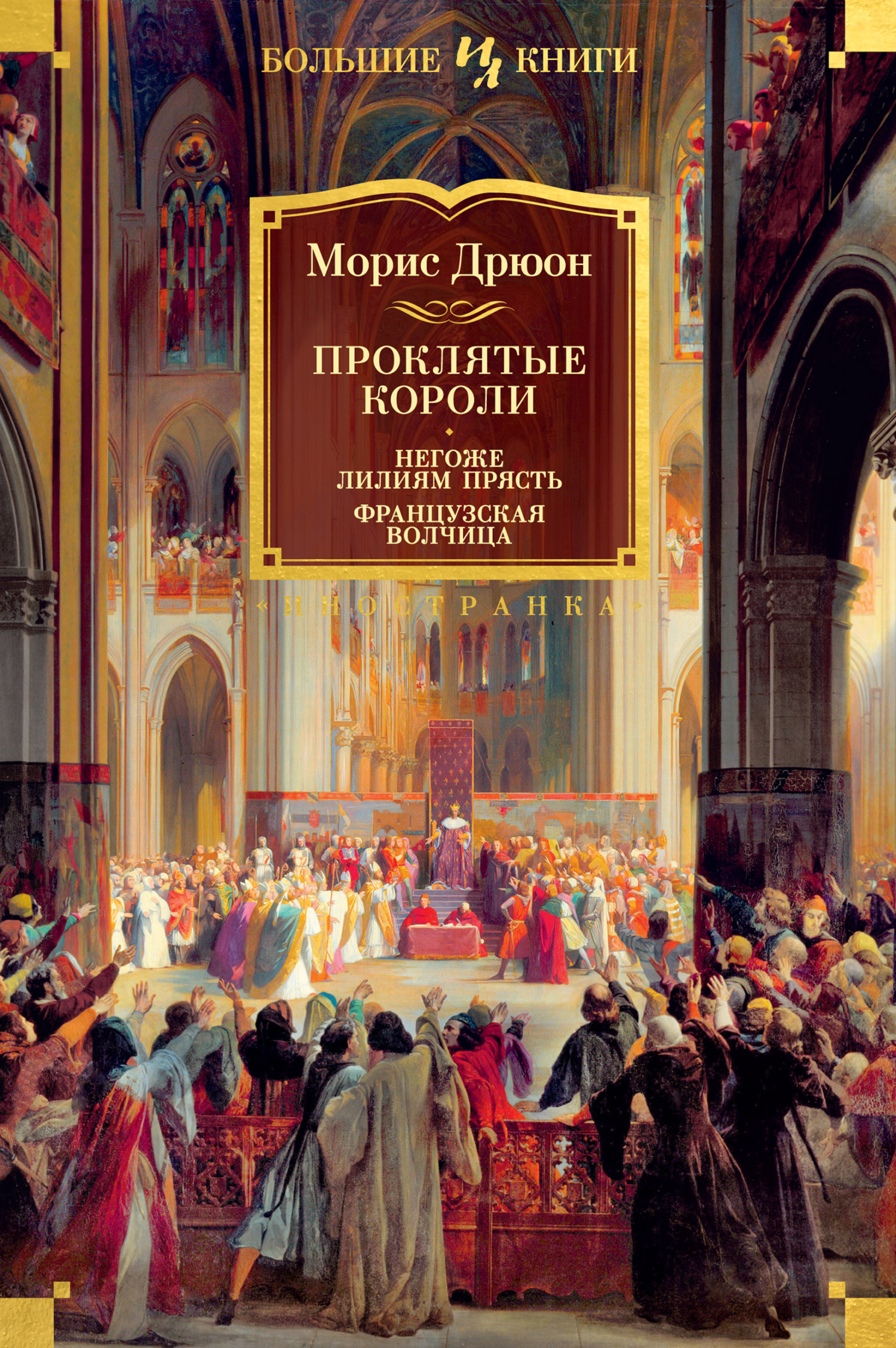да те, кто поплоше; собравшись группками, они горячо обсуждали событие.
– Пойми, – твердил Бувилль жене, – я обязан был немедленно все ему сказать. Зачем ты меня удержала?
Они отошли к амбразуре окна и тихонько шептались, даже друг другу боясь поверить свои мысли.
– А кормилица? – спросил Бувилль.
– Я за ней сама смотрю. Увела в свою спальню, заперла на ключ, а возле дверей поставила двух человек.
– Она ничего не подозревает?
– Нет.
– Надо бы ей сказать.
– Подождем, пока все разъедутся.
– Нет, я должен был открыть ему…
Толстяка Бувилля терзала совесть – почему, почему не послушался он своего первого порыва? «Если бы я сказал правду перед всеми баронами, если бы сразу привел доказательства…» Но для этого требовалось быть не Бувиллем, а человеком иного склада, скажем коннетаблем, а главное, не иметь супруги, которая дергает тебя за рукав.
– Но разве могли мы знать, – говорила мадам Бувилль, – что Маго так ловко поведет дело и что ребенок умрет у всех на глазах?
– В сущности, – пробормотал Бувилль, – может, лучше было бы нам представить баронам настоящего, пусть бы свершилось предназначенное судьбой.
– А что, а что я тебе говорила?
– Верно, я не снимаю с себя вины. Ведь мне в голову пришла эта мысль… дурная мысль…
Кто им теперь поверит? Как, кому смогут они объявить, что обманули баронов, что увенчали королевской короной младенца кормилицы? Ведь уже одно это – прямое святотатство.
– Знаешь, чем мы рискуем, если это станет известно?.. – шептала мадам Бувилль. – Тем, что Маго отравит и нас с тобой.
– Я уверен, что регент с ней в сговоре. Когда он вытер руки, запачканные младенцем, то сразу бросил тряпку в огонь, я сам видел… Он нас к суду притянет за клевету на Маго.
Отныне все их помыслы занимала единственная мысль, как бы спастись самим.
– Ребенка обрядили? – спросил Бувилль.
– Я сама его обряжала вместе с горничной, пока ты провожал регента, – пояснила супруга. – И поставила возле него четырех конюших. Так что с этой стороны опасаться нечего.
– А королева?
– Я запретила с ней об этом говорить, боюсь, как бы ей не стало хуже. Хотя вряд ли она и поняла бы. Я приказала повитухе ни на шаг не отходить от ее ложа.
В скором времени в Венсенн прибыл камергер Гийом де Сериз и объявил де Бувиллю, что регента только что возвели в королевское звание с согласия его дядей, брата и оказавшихся во дворце пэров. Совет заседал недолго.
– А что касается похорон его племянника, – продолжал камергер, – то наш государь Филипп решил, что они состоятся в самое ближайшее время, дабы не длить горе народное. Выставлять гроб новопреставленного не будут. Так как сегодня пятница, а в воскресенье покойников земле не предают, тело завтра же будет перевезено в Сен-Дени. Бальзамировщик уже вызван. А я, мессир, отправляюсь в обратный путь, так как король приказал мне не мешкать.
Бувилль молча глядел вслед удалявшемуся камергеру. «Король, король…» – беззвучно шептал он.
Граф Пуатье стал королем; маленького ломбардца похоронят в королевской усыпальнице в Сен-Дени, а Иоанн I жив и здоров!
Бувилль поплелся в спальню к жене.
– Филипп уже король, – сообщил он. – А мы остались с младенцем-королем на руках…
– Надо, чтобы он исчез…
– Да что ты говоришь?! – негодующе крикнул Бувилль.
– А что я говорю? Ты, видно, совсем рехнулся, Юг! – возразила мадам Бувилль. – Я имею в виду – надо его спрятать.
– Но тогда ему не взойти на престол.
– Зато хоть жив останется. И возможно, в один прекрасный день… Разве можно знать, что будет…
Но как его спрятать? Кому доверить младенца, не вызвав подозрения? А самое главное – надо вскормить его.
– Кормилица! – вдруг воскликнула мадам Бувилль. – Только кормилица может нам помочь. Пойдем скорее к ней.
Они поступили весьма разумно, подождав отъезда баронов и только после этого сообщив Мари де Крессе о смерти ее сына. Вопли и крики ее разносились не только по всему замку, но слышны были даже во дворе. А тем, кто услышал ее крики и застыл от ужаса на месте, объявили потом, что это кричала королева. Даже сама королева, выйдя на мгновение из беспамятства, поднялась с подушек и тревожно спросила:
– Что случилось?
Даже почтенный старец, сенешаль де Жуанвиль, и тот, очнувшись от дремоты, задрожал с ног до головы.
– Кого-то убивают, – произнес он, – так кричат только под ножом убийцы, я-то, слава богу, знаю.
А Мари тем временем твердила, не умолкая:
– Я хочу его видеть! Хочу его видеть! Хочу его видеть!
Бувилль с супругой вынуждены были схватить ее, потому что она, обезумев от горя, рвалась из комнаты в дальние покои, где лежал труп ее сына.
Целых два часа супруги пытались успокоить, утешить, а главное, вразумить Мари, десятки раз повторяя одни и те же доводы, но она не слушала.
Напрасно Бувилль клялся, что никак не желал причинить ей такое зло, что во всем виновата графиня Маго, сумевшая осуществить свой преступный замысел. Слова эти запали в голову Мари, хотя вряд ли она поняла их, но со временем они сами всплывут в ее памяти; однако сейчас все это не имело для нее никакого смысла.
Временами слезы высыхали у нее на глазах, она глядела вдаль невидящим взором, а потом снова начинала громко стонать. Так стонет животное, раздавленное колесами.
Бувилли подумали, что она и впрямь лишилась рассудка. Они уже истощили все свои доводы: принеся в жертву родное дитя, Мари, пусть даже невольно, спасла жизнь королю Франции, потомку прославленной династии Капетингов…
– Вы молоды, – твердила мадам Бувилль, – у вас еще будут дети. Ведь нет женщины, которая не потеряла бы грудное дитя.
И она перечислила всех отпрысков королевской фамилии, погибших в младенчестве на протяжении трех поколений, и начала свой перечень с мертворожденных близнецов, которыми разрешилась от бремени Бланка Кастильская. У Анжуйских, у Куртене, у герцогов и графов Бургундских, у Шатийонов, даже в роду самих Бувиллей сколько раз матери горевали над гробом своего младенца и жили затем в радости, окруженные многочисленным потомством! Каждая женщина рожает двенадцать – пятнадцать раз, а выживает не больше половины детей.
– Я вас отлично понимаю, – продолжала мадам Бувилль, – больнее всего потерять первенца.
– Нет, нет, ничего вы не понимаете! – кричала Мари, рыдая. – Этого… этого никто мне никогда не заменит!
Убиенное дитя было плодом ее любви, столь страстного желания, столь пламенной веры, что перед ними отступили все законы и все запреты; в нем воплотилась ее мечта, за него она заплатила дорогой ценой – двумя месяцами оскорблений и четырьмя месяцами заточения