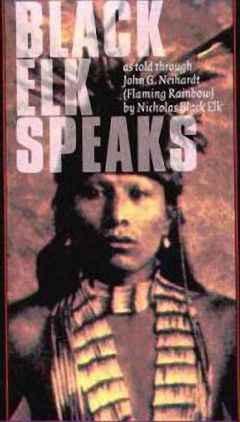Купец стоял у ворот. Его поджидал? Кузьма удивился, но виду не подал.
— Говорил я тебе и много раз говорил: останься приказчиком, в обиду не дам. Ан нет, не послушал меня, пошел дорогою еретиков. Все вы, мордва, такие, — слово-то выкрикните, когда же надо драться, то на других надеетесь. Да ладно, чего теперь тебя учить!.. Лучше скажи, как там, в монастыре-то, житуха твоя, голодом не морят?
Несмотря на теплый солнечный день, на Строганове был черный суконный сюртук, застегнутый на все пуговицы, и такие же штаны. Полицейских он обвел тяжелым сердитым взглядом, и те поспешно удалились, оставив их одних.
Сначала Силантий Дмитриевич завел Кузьму в свою молельную избушку. В церковь он не хаживал, молился в одиночестве. Избушка внутри вся была обставлена иконами — большими и маленькими. В подсвечнике горели две толстые парафиновые свечи, мерцали, подмигивая и потрескивая, лампадные огоньки у иконостаса, перед которым стоял бархатом накрытый аналой. Пахло воском, ладаном и смолою.
Перед иконой купец помолился, шепча «Отче наш», потом опустился на колени. Крестился двумя перстами, широко, размашисто. Встал. Достал с киота толстую книгу, откашлявшись в кулак, сказал:
— Вот это прочтешь. И всю дурь свою позабудешь, поверь.
— Я «Ветхий завет» уже четыре раза читал, — сказал Кузьма.
Купец удивился и озадаченно посмотрел на гостя. Ничего на это не ответил, только задышал тяжелее, с перерывами — купец страдал удушливой астмой. Книгу положил на место.
Затем пошли в хоромы. Дом был двухэтажный. Кузьме очень понравился пол из широких досок, он выкрашен коричневой краской и натерт воском, от чего блестел, как пасхальное яйцо. Шкафы — из мореного дуба, вдоль стен расставлены разноцветные, обитые сафьяном сундуки. Купец открыл один из них. Там лежали книги. Купец взял в руки одну, похвалился:
— Вот эту прислали мне из Александро-Невской лавры. Тамошний архимандрит Серафим написал, «Русская душа» называется. Сам Серафим по рождению своему наш, арзамасский, полурусский, полумордвин. — Купец надел очки, отыскал знакомое место в книге, принялся читать: «Русскую землю накрыла зловещая тьма: все святые дела приостановлены. Теперь многие наши пастыри — еретики, хоть об этом и стыдно говорить. Тех людей, которые работают во имя пользы нашего государства, правители не любят. Везде и повсюду на руководящих постах немцы да шведы, кои копят богатство лишь для себя…»
Гладким холеным пальцем купец ткнул в другую страницу, тоном, не терпящим возражений, сказал:
— Прочти-ка, Кузьма Алексеевич, вот это. О нашем государе здесь сказано, о его проделках злых…
Алексеев пристальным взглядом прошелся по буквам, словно ища те самые «злые проделки». Строганов же потерял интерес к чтению, потянул гостя в другую горницу. Она была поменьше и к тому же — неубранная, видимо, туда редко кто заходит. В середине — маленький столик, на нем стеклянная чернильница с чернилами, гусиные остроотточенные перья и костяные счеты. Рядом два раскрытых мешочка, в одном виднелись медные, в другом — серебряные монеты.
— Здесь все мои радости! — добродушно рассмеялся Строганов. И тут же добавил: — А теперь пойдем-ка откушаем, у меня живот подвело, урчит да урчит… У меня, Кузьма Алексеевич, капитальчик-то был с ноготочек, — рассказывал за столом Строганов. — Отец мне денег немного оставил, очень немного. Своим трудом да умом приумножил состояние. Где в голоде, где в холоде, а где и не спамши вовсе. В пору молодости, считай, все время в дороге бывал, в тарантасе. Там и спал, и ел. Просто так огромные деньги не скопить бы мне.
Хотел дальше рассказать о своем житье-бытье, да обнаружил какой-то непорядок на столе, сердито крикнул кухарку и велел ей принести сахару. Та принесла целую чашку сахарных головок. Купец ножом расколол один кусок надвое и, отправив большой осколок себе в рот, причмокивая, продолжил:
— Князья столичные, Кузьма Алексеевич, лодыри из лодырей. Право слово! Вкусно жрут, до полдня дрыхнут. Палец о палец не ударят, проклятые! В собственных хоромах театры пооткрывали, с крепостными девками спектакли разные играют. А там — объятия, поцелуи, хиханьки-хаханьки. Тьфу! И не стыдятся ведь. Денежки бы свои мне отдали — я бы Россию всяким добром напичкал! В нашем государстве купеческое дело тяжело поставить — все и вся в руках у знати. У вашего мужика-пахаря как не водились денежки, так никогда и не будут водиться. В карман, если и попадет ломаный грош, и тот от барина своего в землю зароет. Бывало пойду я по селам товары скупать — обманывай, сколь хошь: за полцены тебе лен свой продаст, зерно, мясо, масло. А уж денег у него под проценты не проси, в жизнь не отдаст…
Строганов допил свой чай, блюдце перевернул вверх дном и начал совсем о другом, теперь уже пристально глядя в глаза Кузьме:
— За что, скажи мне прямо, язычник, ты любишь своего языческого Бога, а?
— Он призывает возрождать истинную веру, эрзянскую. А когда наши молитвы дойдут до Мельседей Верепаза, ударят двенадцать громов и на землю сойдет Давид и сонмы ангелов. После этого на земле останутся только те, кто будет исповедовать мордовскую веру, принимать наши законы…
— Эрзянские ваши законы, выходит, самые лучшие? — скривил в усмешке рот Строганов. — Ну и придумал!.. И чего же вы хотите со своим Богом? Богатства? Денег?
— Нет, свободы и братства. Мы, земные жители, все едины. Нас разъединяют лишь деньги и чины.
— Тогда что? Я, знаменитый купец, и ты, нищий, братья, по-твоему? — в глазах купца вспыхнула злость.
— Кем бы мы не были здесь, все будем на том свете одним судьей судимы, — не отступал Кузьма.
— Не знаю, как на том свете, а на этом судья только тебя ожидает, — прошипел Строганов с яростью. — Завтра тебя в Нижний заберут, там с тобою чаи не будут распивать! Там прокуроры, надзиратели, палачи. Ох, брат, очень я тебе не завидую!
— В острог посадите? Каленым железом начнется пытать?.. Только и можете, что душить… Зря только время на меня тратили, Силантий Дмитриевич, да хлеб-соль переводили…
Кузьма встал из-за стола, низко поклонился купцу в пояс.
На улице его поджидали те же полицейские.
* * *
И вот Кузьма Алексеев плывет на той же барже по Волге. Два его охранника прилегли на чем-то наполненных мешках. Куда арестант убежит? Можно и поспать. Кузьма же сидел на корме и вспоминал, на реку глядя, о том, как работал на Волге грузчиком, был приказчиком у купца Строганова. Он хорошо знает великую реку: какой глубины она, каков ее характер, какие волны поднимает в сильный ветер, как сверкают, переливаются ее воды…
Он видел, как она работает: качает, крутит, ворочает мельницы, кормит рыбою, поит поля и огороды. Она — вольная и широкая, течет и течет, остановок не знает, а за это ничего не спрашивает. Трудяга! За всю многовековую жизнь она перевидала и пережила много. В думах своих молчаливых она держит то мгновение, когда первый человек вошел в нее. С того времени много воды утекло, улетели годы, тысячелетия, подобно быстрокрылым птицам. Над нею и теперь то же небо. Да и сама та же, что и в древние времена. Ну, может быть, течение ее немного изменилось, и светлые воды немного замутились. Жители вдоль ее берегов научились ловить рыбу и добывать огонь. И очень часто Волга протекала сквозь горящие леса, дрожащими волнами глядела, как трещали пылающие вековые дубы и сосны. Дивилась Волга, почему люди не умеют ладить друг с другом, почему добро оплачивают злом.
Река словно человеческая дорога. Однако человеческая жизнь коротка. Речной же конец никому не отыскать: волжские воды сливаются с другими реками, а потом теряются в каспийских волнах. И еще: река свободна. Никто не может повелевать ею. А человек — другое дело. Человек — раб. Вот как сейчас он, Кузьма. Не по своей же воле он сейчас на этой барже… Не по своей воле вон там, вдоль берега, шагают в упряжке бурлаки. До слуха Кузьмы доносилась их песня:
Эх, к обеду, эх, к обеду,
Говорю, когда на старый двор,
Ох, родная, мать родная,
Тучка белая взойдет,
Вот тогда-то, дорогая,
Я скажу тебе, скажу
Средь бела дня:
«Белой тканью
Рост измерит мне она,
Белой тканью
Принакроет и меня…»
Бурлаки, тащившие тяжелую груженую баржу, шли понуро, опустив взлохмаченные головы и мокрые бороды. Одни в лаптях, у других на ногах — поношенные, видавшие виды сапоги, последний, одетый в рясу, тянул лямку совсем босиком. Лямка накинута на плечи, длинная, веревочная, грубая и отяжелевшая от воды. Двигались бурлаки, делая шаг одновременно, подавшись всем телом вперед.
Скорее всего, они — двадцать беглых крепостных, а двадцать первый — беглый монах из раскольничьего монастыря. Прежняя жизнь была, знать, еще более печальной и горькой, если тянуть баржу нанялись.