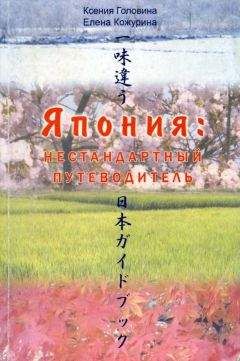Проездом на брайтонский курорт он был в Лондоне у Герцена.
Возражал на его упреки в теперешней своей апатичности: «Называешь меня холодным и балованным ребенком. Увы! Я просто не в шутку, кажется, старик с недугами». Ныне, в канун сорокалетия, он стал нередко думать о смерти.
Но выдались у него месяцы, когда мимолетно светлее стало на душе. Такое бывает при встрече с очень яркой, дивной юностью. Девушка была в самом деле замечательно хороша.
Он думал о ней больше применительно к ней самой (ее судьба была необычна) и очень осторожно, со скорым отталкиванием, соединял себя мысленно с нею… Хоть и мила она была «как гётевская Гретхен». И ее семейство хотело бы породниться с Тургеневым.
Княжна Катиш Мещерская заставляла его пристально всматриваться в нее. Ей восемнадцать лет. Она из обедневшего аристократического рода. Светловолосая и с чертами лица северной камеи. Прелесть, думал он, да, к сожалению, по-русски не понимает ни слова. «Она родилась и воспитывалась здесь. Не она виновата в этом безобразии, но все-таки это неприятно. Не может быть, чтобы не было внутреннего, пока еще тайного противуречия между ее кровью, ее породой и ее языком и мыслями, — и это противуречие, со временем, либо сгладится в пошлость, либо разовьется в страдание. А мила она так, что и описать нельзя».
Девушке нравился знаменитый соотечественник, да и подходящих партий, людей с каким-то состоянием, вокруг не было, одни щеголеватые парижане — новые воротнички в долг. Старый князь и ее мать с парализованными ногами, которую возили в кресле, по-особому привечали Тургенева.
Но однажды он видел, беседуя с Мещерским, как, отраженная в зеркале, княгиня в соседней комнате вполне исправно ходит… Они были не в состоянии давать обеды и выезжать, отсюда — понял он — ее терпеливая жертва для поддержания достоинства семьи.
Он размышлял затем о том, что только светская женщина способна на такое. Что именно аристократическая дрессировка — так он назвал для себя рафинированную воспитанность — и делает хотя бы сносным совместное житье с кем-то. Ему ведь, пожалуй, было уже не нужным общение с женщиной душой: все отнято тою. Отсюда «только с теми людьми можно жить, — сформулировал он для себя, — которые все видят и понимают — и умеют молчать». Что-то получалось, что и ни с кем жить нельзя… Старое дерево разучается пускать побеги.
Ну а однажды он решил заговорить с Полинеттой по-русски — прежде было неудобно во французском кругу. Он был теперь приблизительно доволен ею: добра, смышлена…
— А скажи-ка, Поля, как по-русски «хлеб»?
Она забыла за семь лет. И отчего-то заранее восприняла его вопрос как упрек. (Очень самолюбива.)
— А «стол», «окно»? — спрашивал он.
Из ее крапчатых глаз начали падать слезы. Дочь набычила крутой лоб.
— Это удивительно! — не мог не воскликнуть он, отдаленно понимая в то же время, что девочка забыла язык, потому что хотела забыть все прежнее, и в этом ее трудно винить.
Но вот он снова в Куртавнеле.
Полин великолепная, в розовом капоте, браслеты с винно-красными камнями (она постоянно «на коне», даже и в усадебном уединении всегда элегантна), то и дело недоуменно разводит руками: милому другу писателю, теперь уже знаменитости, отведен у них отличный кабинет с галереей для прогулок — там сам бог велел создавать нечто изящное, Тургенев же по большей части бродит вдоль каналов или ездит по округе верхом… Полин не понятно, как может что-то не даваться, если труд правильно организован.
Ее ожидание от него новой порции написанного, того, что он мог бы читать вслух за чайным столом, давило его, делало невозможным результат.
За неимением того, что можно было бы читать из только что созданного (имеет особый аромат), он рассказывал о России, о том, что там сейчас растет новая когорта — незнакомые молодые для совсем новой борьбы. Но ей было неинтересно про тамошнее.
Говорили и о природе творчества. Полин имела о нем довольно исчерпывающее мнение и строгие суждения. Дисциплина и рациональная обстановка (для каждого своя) — суть исчерпывающие условия для творчества, никакой мистики. Насчет мистики — да, но есть магия, милая Полин все же знает не все. Кто-то из великих работал, помнится, опустив ноги в холодную воду, а на Гейне вдохновляюще действовал запах гниющих яблок, но, если решительно не идет — не подстегивать, нет! Творчество связано еще и с органичностью и стройностью существования. Можно писать от мысли, от упоения или же от боли, если они звучат гармонично, но не годится от хаоса. Он же — в кризисе и склоняется к тому, что писать он не будет!
— Зачем же так думать, словно не было другой поры и не будет, стоит только сбросить с себя хандру!
— Таков взгляд на вещи, который укоренился у меня в последнее время.
— Но это загубить свое восходящее имя! И загубить себя!
Да нет, он не настолько субтилен. Что же касается известности… Нельзя сказать, что она совсем безразлична ему, нет. Но потому-то она и не ко времени теперь, что он не имеет на нее права. Иначе уличат они, те, для кого он пишет. Публику не надуешь ни на волос, она умнее каждого из нас. Заметьте еще, что принося ей всего себя, всю свою кровь и плоть, мы должны быть благодарны ей, если она поймет и оценит жертву, если она обратит на вас внимание, и он считает, что это справедливо.
— Да, так! Публика глупа, как башмак, но судит верно, о том есть бездна суфлерских анекдотов, лучше всего знают зал суфлеры… Но настоящие кровь и жертвы все же излишни и будут восприняты ею как чрезмерность.
Ведь сама Полин обходится без таких крайностей! Всего лучше у нее выходит петь Травиату, наблюдая какого-нибудь забавного толстяка в первых рядах партера. Как жестоко это русское выворачиванье нутра!..
Да, он о том же. У Пушкина (у вас его почти не знают) получалось удерживаться на некой грани: «…над вымыслом слезами обольюсь» (то есть лишь отчасти сознавая, что тут вымысел) — а назавтра посмеяться над тем же…
И она о том. Ей кажется, что русский друг авгурствует и затемняет смысл. Есть ведь, наконец, такая славная вещь: подчинить себе публику, этого многоликого монстра! Отвага и «кураж», как у укротителя, который входит в клетку со львами… Она великолепно рассмеялась. Вчерашний успех должен рождать новый — чего же больше? Тренированность в мастерстве дает еще и то блаженство, чтобы слышать тайные небесные сферы, — и тут тоже нельзя остановиться. У милого ее друга все для того есть, а главное, его готовы слушать куртавнельские обитатели!
Он видел, что она по-своему права, и сдавался в споре. С ее позиций было нетрудно понять ее недоумение по поводу того, что у него не получается воспользоваться превосходным здешним кабинетом. Однако у него вообще не шла работа в последний год. Он ожидал от поездки за границу некоего кризиса, из которого он выберется либо «добитым окончательно, либо обновленным». После шумного недавнего успеха его книг в России (в частности, он был удостоен приглашения к обеду великими князьями) у него сейчас вновь полоса глубинного недовольства собой. Он спрашивал себя: такова ли его природа? Или же что-то новое забродило в русской жизни и созревает в нем?
Ему было неуютно с теперешней своей растерянностью в соседстве с ее властным темпераментом… Он выразил для себя разницу между нею и собой, как он ее виДел: «Самодовлеющая гордость ее бесспорной гениальности — от природы. Он же как червь должен доказывать свою талантливость…» Бессознательное ее воцарение надо всем и всеми восхищало его, порой заставляло страдать.
На его взгляд, в ней все же заметна была отвычка от него, может быть, охлаждение. Полин не могла не чувствовать его непроизносимый упрек, что вызывало ее невольное раздражение. Она сама вряд ли его сознавала.
Красива и права — такою запомнилась; последнее — каким-то образом — также вследствие ее гордости, смелости и властности, порой способной попирать других. Иван Сергеевич чувствовал себя виноватым, пытающимся подарить ей вещь, которая не нужна ей… Толстый и милый Луи, почитающий себя счастливым и в любой ситуации способный быть таковым, имей он при том красное вино и фазанью ферму, был в самом деле наилучшим вариантом для нее, она снова была права.
Вновь он в Париже. Потом Баден-Баден, Булонь, Марсель и так дальше.
Бывает полоса в отношениях, когда лучше вспоминать друг друга вдалеке. Не так болезненно.
В отдалении от нее он спрашивал себя: что же такое Полин, какова она? Улыбнулся печально: «Она добра, то есть щедра… то есть отдает другим то, что ей не совсем нужно…» Началось все почти уже два десятилетия назад, когда его больше всего пленяла красота (в ее ряду музыка), и в дальнейшем ему виделось в их отношениях благо для него. Теперь же ему не спастись. Давно погибла надежда на счастье, но все же не сама любовь. Корень ее иррационален!..