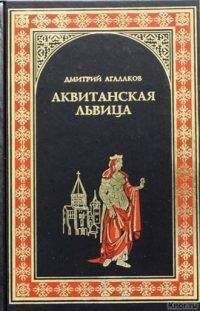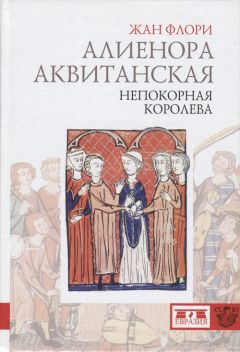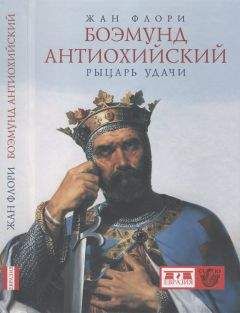Вот о чем думал Людовик, когда, отпраздновав Пасху 1149 года на Святой земле, весной садился на корабль, принадлежавший Рожеру Второму Сицилийскому, несмотря на давнюю обиду, согласившемуся предоставить небольшой флот в распоряжение короля Франции. Рожер был небескорыстен — он уже знал о глубочайшей неприязни, которую испытывал Людовик, как истинный франк, к Мануилу Комнину, и решил сыграть на этом. Беспощадная война между Рожером и Мануилом затянулась, и сицилийский норманн надеялся привлечь на свою сторону Людовика Седьмого для будущего политического противовеса Византии. Тем более что император Конрад Гогенштауфен, женатый с Мануилом Комниным на родных сестрах, несмотря на все передряги, остался в притяжении византийской политики.
В середине марта флот Рожера подошел к берегам Святой земли, а в апреле французы покинули Иерусалим, оставив князей Палестины один на один с беспощадным Нуреддином, продолжателем дела своего отца — кровавого Атабека Зенги.
Но Людовик и Алиенора отплыли на разных кораблях…
Этому предшествовала нарастающая враждебность в их отношениях друг к другу. Алиенора хотела как можно скорее отправиться в Европу, и ее торопливость озадачивала мужа. Точно она скрывала важное дело, в которое до поры до времени не собиралась посвящать его. Королева превратилась в ледяной столб и поначалу не прятала от мужа этот холод, словно предвидя скорый исход, надеясь как можно скорее разорвать все нити, которые их еще связывали. Сказали бы ей, что после неудачи под Дамаском она целый год пробудет на Святой земле, Алиенора приняла бы это известие за дерзкую и злую шутку.
Людовик же, многое передумав, со своей стороны был настроен мирно. Война оказалась проиграна, но жизнь продолжалась. И больше всего ему хотелось, чтобы все вернулось на круги своя. Чтобы Алиенора стала прежней — милой женой, влюбленной в песни трубадуров, пылкой и страстной любовницей, великолепной охотницей, верной спутницей, пусть и взбалмошной, но которой он всегда гордился. Ведь и по красоте, и по уму, даже неспокойному, она стояла на голову выше всех других знатных сеньор.
Он первым пошел на сближение — к этому его толкало многое, в том числе и желание физически обладать ею. Людовик мог бы найти много прекрасных дам, но он никогда бы не решился нарушить клятву, данную перед Богом, быть только с этой женщиной. Но самое главное — он желал только ее. Лишь при виде Алиеноры — яркой и ослепительной — его охватывал трепет.
Именно таким, открытым для любви, король и оказался в один из первых осенних дней в покоях супруги.
— Ты хочешь, во что бы то ни стало овладеть мной? — спросила королева.
Служанки только что переодели ее ко сну в длинную белую рубашку, расчесали пышные волосы. Алиенора забралась на высокую кровать под громоздким балдахином и легла.
— Я вижу, у тебя скулы сводит при одной мысли обо мне? — улыбнулась она. — Говори же, это так?
Но он молчал — только смотрел на нее. Она потянула рубашку — и шелк мягко пополз вверх, открывая голени и колени, бедра…
Алиенора улыбнулась:
— Возьми же меня, Людовик…
И он взял ее — с прежней страстью, давно неутоленной, с яростью. Она отвечала ему на ласки, но сдержанно. Обожаемая женщина занималась с ним любовью, закрыв глаза, но в те редкие мгновения, когда она смотрела на него, ему становилось страшно. В ее взгляде не было ни прежнего чувства, ни сладострастного огня. Отблески иного пламени читал он в глазах Алиеноры — отблески вероломства и лжи.
Людовик подозревал ее, но день за днем приходил к ней. И она отдавалась ему, добросовестно исполняя свой супружеский долг. Он понимал: Алиенора затаилась. И ожидал подвоха. Утолив желание плоти, он чувствовал опустошение и с тяжелым сердцем возвращался из ее покоев к себе.
Его опасения были справедливы. Едва он уходил, как Алиенора утыкалась лицом в подушку и давилась рыданиями. Все ее естество рвалось лишь в одну точку на карте земли — к единственному мужчине, которого она любила.
«Господи, Раймунд, — в эти минуты шептала она, — милый мой Раймунд…» Она была полна решимости выполнить их план и ради его исполнения готова была принимать мужа. Отдаваться ему, терпеливо ждать и отдаваться вновь. Пока не подойдет срок. Но подарить прежнюю нежность и желание уже было неспособно ни сердце Алиеноры, ни ее глаза.
И однажды, когда Людовик особенно остро почувствовал пустоту рядом с женщиной, которая перед Богом называлась его женой, обожженный ее отчужденностью, он спросил:
— Ты думаешь о нем?
Брови Алиеноры дрогнули:
— О ком — о нем?
— Ты знаешь, о ком я говорю. Или… я ошибаюсь? — Он схватил ее, сидевшую на кровати, раздетую, за плечо и повалил на постель. — Скажи мне, ты думаешь о нем или я просто схожу с ума от ревности?
— Пусти, — негромко сказала она.
— Говори…
Она дернулась, но он еще крепче прижал ее.
— Да ты и впрямь спятил! — прошипела она.
— Говори же! — с яростью выдавил он из себя.
Алиенору неожиданно разобрала злость — ловким движением она вырвалась из его рук, спрыгнула с постели. Она стояла по другую сторону их супружеского ложа — нагая, разгневанная, неприступная.
— Если ты так хочешь, то да, я думаю о нем!
Людовик закрыл глаза.
— Повтори еще раз…
Она поняла, что не справилась с собой, — пошла на поводу у чувств и выдала себя. Но ей уже было безразлично — гордость герцогини Аквитании, которая никому ничем не обязана и вольна поступать по своему усмотрению, на секунды взяла верх.
— Да, я думаю о нем! Это мое право, Людовик, и тебе его не отнять у меня! — Она порывисто дышала. Мгновенная вспышка гордыни и ненависти угасала. Ей все же стоило быть благоразумной. Хоть немного. Ради будущего — ее и Раймунда. Она не могла позволить себе, поддавшись чувствам, открыть сердце уже давно нелюбимому мужу. У него должна оставаться надежда, иначе он станет неуправляем. — Я буду думать о том, о ком захочу, — уже куда миролюбивее заметила она. — В том числе и о моем дяде. Буду думать назло тебе, потому что я — не твоя раба. Я — хозяйка себе, как бы тебе ни хотелось убедить нас обоих в обратном. — Она выдержала паузу. — Ты придешь завтра, если захочешь. А теперь ступай к себе — я устала и хочу побыть одна…
Людовик перехватил ее взгляд и усмехнулся — отблески все того же вероломства и лжи были в глазах Алиеноры, ее голосе, во всех повадках, какой бы обольстительной и желанной ни казалась она…
Он больше не приходил к ней.
А вскоре к иерусалимскому берегу подошел флот Рожера Второго, и начались приготовления к отплытию. Людовик сам отдавал всевозможные распоряжения — этой работой он пытался отвлечь себя от невеселых мыслей. Злые ветры привели их на эту землю, а теперь гнали прочь — его и Алиенору — врагами друг другу.
Людовик выдержал строгий пост и сразу после Пасхи, которую два короля отметили весьма скромно, сел на головной корабль и вышел в море. Теперь главным его окружением были исключительно тамплиеры во главе с новым магистром Эвраром де Баром. Робер де Краон, сделавший орден могущественной европейской организацией, охватившей своим влиянием Запад и Восток, умер, и братья единодушно избрали новым своим вождем отважного и мудрого де Бара, спасшего французских крестоносцев в Кадмских горах.
Алиенора, окружив себя аквитанской знатью, отплыла на другом судне. Южане и северяне, недавние собратья по оружию, видя, что разлад между королем и королевой принимает серьезный оборот, в последнее время заметно размежевались.
В первую же ночь случился шторм, и всем экипажам пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить норманнские суда. Когда же утром следующего дня Людовик поднялся на нос корабля и огляделся, то обнаружил, что судна его жены нет на горизонте.
1
Она проснулась от шума и сразу села в постели. Сухой треск ломающегося дерева, десятки вопящих голосов и отдаленный лязг оружия тотчас и разом обрушились на Алиенору.
Сбросив ноги с постели, королева встала.
— Что это? — спросила она.
Ее служанки, бывшие при ней, хлопали глазами.
— Мы не знаем, ваше величество, — пролепетала одна из них.
— Так пойдите и узнайте! — строго сказала королева. — Или посмотрите в окошко!
Одна из служанок, отдернув шторку, заглянула в узкое оконце и ойкнула:
— Там корабли, много! Господи, на нас напали…
— Оденьте меня! — приказала Алиенора.
Но дверь в ее каюту распахнулась раньше, чем одна из служанок успела залезть в платье, чтобы выйти, а другие — облачить государыню. В каюту влетел сам Жоффруа де Ранкон с мечом в руке. Увидев свою прекрасную королеву в ночном наряде, почтительно отвел глаза.
— Что вы себе позволяете, де Ранкон? — едва успела спросить королева. А в открытую дверь за де Ранконом уже влетали звуки настоящей битвы. — Смотрите же мне в глаза, черт вас побери!