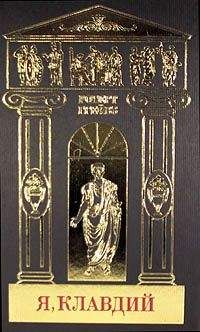Гатерий великолепно пародировал. У него был очень громкий голос, подвижное лицо, изобретательный ум и богатое воображение. Стоило Тиберию употребить в своей речи какое-нибудь архаичное слово или притянутое за уши выражение, как Гатерий подхватывал его и делал ключевым в своем ответе (Август обычно говорил, что колеса красноречия Гатерия нуждаются в цепях, даже когда он едет в гору). Тугодуму Тиберию было трудно тягаться с Гатерием. Галл же превосходно изображал верноподданнический пыл. Тиберий тщательно следил за тем, чтобы не создалось впечатление, будто он претендует на божественные почести, и возражал против того, чтобы ему приписывали сверхъестественные свойства: он даже не разрешил жителям провинций строить храмы в его честь. Поэтому Галл любил, говоря о нем, называть Тиберия, словно случайно, «его священное величество». Когда Гатерий, всегда готовый подхватить шутку, поднимался, чтобы упрекнуть его за столь неподобающее выражение, Галл рассыпался в извинениях, говоря, что у него и в мыслях не было сделать что-либо вопреки приказу его священного… о боже, так легко впасть в ошибку… еще раз тысяча извинений… он хотел сказать, вопреки желаниям его досточтимого друга и собрата-сенатора Тиберия Нерона Цезаря Августа. «Без Августа, дурень, — произносил театральным шепотом Гатерий. — Он отказывался от этого титула тысячу раз. Он пользуется им, только когда пишет письма другим монархам».
Они обнаружили, чем сильнее всего можно уязвить Тиберия. Если он принимал скромный вид, когда сенат благодарил его за какую-нибудь заслугу перед Римом — например, за обещание достроить храмы, которые остались незаконченными после смерти Августа, — шутники всячески восхваляли его порядочность: вот ведь, не поставил же он себе в заслугу труды своей матери, и поздравляли Ливию с таким преданным и покорным сыном. Когда они увидели, что ничто так не раздражает Тиберия, как дифирамбы по адресу Ливии, они стали упражняться в этом на все лады. Гатерий даже предложил, чтобы, подобно тому как греков называют отцовским именем, назвать Тиберия в честь матери Тиберий Ливиад… но, возможно, более правильная для латыни форма будет «Ливигена»; звать его иначе — преступление.[85] Галл нашел другое слабое место Тиберия — тот терпеть не мог, когда упоминали о его пребывании на Родосе. И вот однажды Галл позволил себе такую дерзкую выходку: в тот самый день, когда до Рима дошло известие о смерти Юлии, он принялся превозносить Тиберия за милосердие и в подтверждение привел историю о родосском учителе риторики, который отказал Тиберию, когда тот скромно обратился к нему за разрешением посещать у него занятия, заявив, что сейчас свободных мест нет, и предложил Тиберию наведаться через несколько дней. «Как вы думаете, — продолжал Галл, — что сделал его священное… прошу прощения, мне следовало сказать: что сделал мой досточтимый друг и собрат-сенатор Тиберий Нерон Цезарь, когда после его восшествия на престол этот наглый учителишка приехал в Рим, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому божеству? Отрубил его наглую голову и дал вместо мяча своим телохранителям? Ничего подобного. С остроумием, равным его милосердию, он сказал, что у него сейчас нет свободных мест в когорте льстецов, и предложил ему наведаться через несколько лет». Скорее всего, Галл все это придумал, но у сенаторов не было оснований ему не верить, и они так горячо ему аплодировали, что Тиберию пришлось сделать вид, будто слова Галла соответствуют истине.
Наконец Тиберию удалось заткнуть Гатерию рот; однажды он проговорил, как всегда медленно: «Прости меня, Гатерий, если я буду более откровенен, чем это принято между сенаторами, но я должен тебе сказать, что ты — страшный зануда и ни капли не остроумен». Затем он обратился к сенату: «Простите меня, отцы сенаторы, но я всегда говорил и снова скажу, что, раз вы были настолько любезны и предоставили мне абсолютную власть, я не должен стыдиться использовать ее для общего блага. И если я прибегну к ней сейчас, чтобы заставить замолчать шутов, которые своими глупыми выходками оскорбляют не только меня, но и вас, я надеюсь, что заслужу этим ваше одобрение. Вы всегда были со мной добры и терпеливы». Теперь Галлу пришлось вести игру в одиночку.
Хотя Тиберий ненавидел мать еще сильнее, чем прежде, он по-прежнему позволял ей руководить собой. Все назначения на должности — будь то консул или губернатор провинции — делались не им, а Ливией; это были весьма разумные назначения, так как она выбирала людей по заслугам, а не по семейным связям или за то, что они льстили ей или оказывали какое-либо личное одолжение. Я должен сказать ясно и недвусмысленно, если еще не сделал этого, что как бы преступны ни были средства, к которым Ливия прибегала, чтобы властвовать над Римом сперва через Августа, затем через Тиберия, она была исключительно способной и справедливой правительницей и созданная ею система управления разладилась лишь тогда, когда Ливия перестала ее возглавлять.
Я уже упоминал о Сеяне, сыне командующего гвардией. Он унаследовал пост отца и был одним из трех человек, которые пользовались сравнительным доверием Тиберия. Вторым был Фрасилл; он приехал в Рим вместе с Тиберием и по-прежнему имел на него большое влияние. Третьим был сенатор по имени Нерва. Фрасилл никогда не обсуждал с Тиберием вопросы государственной политики и не просил для себя никаких официальных постов, а когда Тиберий давал ему деньги, принимал их небрежно, словно они не представляли для него никакого интереса. У него была большая обсерватория в одной из сводчатых комнат дворца, где в окнах были такие прозрачные стекла, что их просто не замечали. Тиберий проводил у Фрасилла немало времени, тот учил его начаткам астрологии и многим другим тайнам магии, в том числе искусству толкования снов, заимствованному у халдеев.[86] Сеяна и Нерву Тиберий избрал, по-видимому, за противоположность их характеров. Нерва не терял друзей и не приобретал врагов. Единственный его недостаток, если это можно назвать недостатком, заключался в том, что он молчал, когда видел зло, которое нельзя было исправить словами. Он был благородный, великодушный, отважный и вместе с тем мягкий человек, абсолютно правдивый и не способный ни на какой обман, даже если это могло принести ему выгоду. Если бы он, например, оказался на месте Германика, он бы ни за что не подделал письма, хотя от этого зависела бы его собственная безопасность и безопасность империи. Тиберий назначил Нерву надзирателем за городскими акведуками и постоянно держал при себе, чтобы всегда иметь перед глазами, как я полагаю, мерило добродетели. Точно так же Сеян служил ему мерилом порока. В юности Сеян был другом Гая и уехал вместе с ним на Восток; у него хватило ума предвидеть, что Тиберий выйдет из-под опалы, и даже способствовать этому; он убедил Гая, что Тиберий не обманывает его, утверждая, будто не стремится к власти, и посоветовал ходатайствовать за него перед Августом. Сеян тогда же сообщил об этом Тиберию, и Тиберий написал ему письмо, с которым тот не расставался, обещая, что никогда не забудет об его услуге. Сеян был лжец, мало того — лжец-стратег; он искусно распоряжался своими лживыми измышлениями, знал, как привести их в готовность и построить в такой боевой порядок, чтобы они одержали победу при любой схватке с подозрениями и даже в генеральном сражении с истиной — это остроумное сравнение принадлежит Галлу, я тут ни при чем. Тиберий завидовал этому таланту Сеяна, точно так же, как завидовал честности Нервы, — хотя он уже далеко ушел по пути зла, необъяснимые для него самого порывы, толкающие его к добру, подчас заставляли Тиберия приостановиться.
Не кто иной, как Сеян, начал настраивать Тиберия против Германика; он говорил, что человеку, который подделал письмо отца, не важно, при каких обстоятельствах, нельзя доверять, что Германик стремится к власти, но ведет себе осторожно — сперва он завоевал любовь солдат подачками, затем затеял эту ненужную кампанию за Рейном, чтобы удостовериться в их боеспособности и безоговорочном подчинении. Что до Агриппины, говорил Сеян, то она на редкость честолюбива, только посмотри, как она вела себя на мосту — назвалась командиром и приветствовала возвращавшиеся полки, словно она невесть кто! А то, что мост хотели разрушить, она, возможно, просто придумала. Ему известно со слов вольноотпущенника, который рабом был в числе домашней прислуги Германика, что Агриппина почему-то верит, будто Ливия и Тиберий ответственны за смерть ее трех братьев и изгнание сестры, и поклялась отомстить за них. Сеян стал один за другим раскрывать заговоры против Тиберия и держал его в постоянном страхе перед убийцами, в то же самое время уверяя его, что пока он, Сеян, на страже, нет ни малейших причин для тревоги. Он подстрекал Тиберия противоречить Ливии по пустякам, чтобы показать, что она переоценила свои силы. Не кто иной, как Сеян, несколько лет спустя собрал гвардию воедино и навел в ней дисциплину. До тех пор три гвардейских батальона, размещенные в Риме, были расквартированы по подразделениям в разных частях города — в постоялых домах и подобных местах, и их с трудом могли собрать на плац; они были неопрятны в одежде, расхлябаны в движениях. Сеян сказал Тиберию, что, если построить для гвардейцев общий постоянный лагерь за пределами Рима, это их объединит, помешает воздействию слухов, не даст погрузиться в волны политических страстей, бушующих в городе, и крепче привяжет их к своему императору. Тиберий пошел еще дальше: он отозвал остальные шесть гвардейских батальонов, размещенные в других частях Италии, и построил лагерь, вместивший их всех — девять тысяч пехотинцев и две тысячи кавалеристов. Помимо четырех городских батальонов, один из которых он отослал в Лион, и поселений отставных ветеранов, это были единственные солдаты в Италии. Германские телохранители не шли в счет, так как считались рабами. При всем том это были отборные воины, более преданные императору, чем любой свободнорожденный римлянин. Среди них не нашлось бы ни одного человека, который действительно хотел бы вернуться в свою холодную, невежественную, варварскую страну; хотя они без конца распевали хором печальные песни о родине, германцы прекрасно проводили время и здесь.