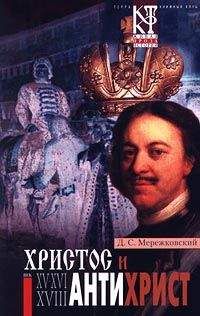Бесконечная грусть о прошлом была в песне чужой:
Chi vuol esser' lieto, sia —
Di doman nоn c'è certezza.
Бесконечная грусть о будущем была в песне родной:
Полети ты, мой сокóл, высóко и далекó,
И высóко, и далéко, на родиму сторону!
На родимой, на сторонке грозен батюшка живет;
Он грозен, сударь, грозен, да немилостивый.
Обе песни, своя и чужая, сливались в одну.
Царевич едва удерживал слезы. Никогда еще, казалось, он так не любил Россию, как теперь. Но он любил ee новою всемирною любовью, вместе с Европою; любил чужую землю, как свою. И любовь к родной и любовь к чужой земле сливались, как эти две песни, в одну.
Цесарь, приняв под свое покровительство царевича, поселил его, чтобы вернее укрыть от отца, под видом некоторого Венгерского графа, или, как сам царевич выражался, под невольницким лицом, в уединенном неприступном замке Эренберг, настоящем орлином гнезде, на вершине высокой скалы, в горах Верхнего Тироля, по дороге от Фюссена к Инсбруку.
«Немедленно, по получении сего, – сказано было в цесарской инструкции коменданту крепости, – прикажи изготовить для главной особы две комнаты, с крепкими дверями и железными в окнах решетками. Как солдатам, так и женам их, не дозволять выходить из крепости под опасением жестокой казни, даже смерти. Если главный арестант захочет говорить с тобою, ты можешь исполнить его желание, как в сем случае, так и в других: если, например, он потребует книг, или чего-либо иного к своему развлечению, даже если пригласит тебя к обеду или какой-нибудь игре. Можешь, сверх того, дозволить ему прогулку в комнатах, или во дворе крепости, для чистого воздуха, но всегда с предосторожностью, чтоб не ушел».
В Эренберге прожил Алексей пять месяцев – от декабря до апреля.
Несмотря на все предосторожности, царские шпионы, гвардии капитан Румянцев с тремя офицерами, имевшие тайное повеление схватить «известную персону» во что бы то ни стало и отвезти ее в Мекленбургию, узнали о пребывании царевича в Эренберге, прибыли в Верхний Тироль и поселились тайно в деревушке Рейте, у самой подошвы Эренбергской скалы.
Резидент Веселовский объявил, что государю его «будет зело чувственно слышать ответ министров именем цесаря, будто известной персоны в землях цесарских не обретается, между тем, как посланный курьер видел людей ее в Эренберге, и она находится на цесарском коште. Не только капитан Румянцев, но и вся, почитай, Европа ведает, что царевич в области цесаря. Если бы эрцгерцог, отлучась отца своего, искал убежища в землях Российского государя, и оно было бы дано тайно, сколь болезненно было бы это цесарю!»
«Ваше величество, – писал Петр императору, – можете сами рассудить, коль чувственно то нам, яко отцу, быть иметь, что наш первородный сын, показав нам такое непослушание и уехав без воли нашей, содержится под другою протекциею или арестом, чего подлинно не можем признать и желаем на то от вашего величества изъяснения».
Царевичу объявили, что император предоставляет ему возвратиться в Россию, или остаться под его защитою, но в последнем случае признает необходимым перевести его в другое, отдаленнейшее место, именно в Неаполь. Вместе с тем, дали ему почувствовать желание цесаря, чтобы он оставил в Эренберге, или вовсе удалил от себя своих людей, о которых с неудовольствием отзывался отец его в письме, дабы тем отнять у царя всякий повод к нареканию, будто император принимает под свою защиту людей непотребных. То был намек на Евфросинью. Казалось, в самом деле, непристойным, что, умоляя цесаря о покровительстве именем покойной, Шарлотты, сестры императрицы, царевич держит у себя «зазорную девку», с коей вступил в связь, как молва гласила, еще при жизни супруги.
Он объявил, что готов ехать, куда цесарь прикажет, и жить, как велит, – только бы не выдавали его отцу.
15-го апреля, в 3 часа ночи, царевич, не взирая на шпионов, выехал из Эренберга под именем императорского офицера. При нем был только один служитель – Евфросинья, переодетая пажем.
«Наши неаполитанские пилигримы благополучно прибыли, – доносил граф Шенборн. – При первой возможности пришлю секретаря моего с подробным донесением об этом путешествии, столь забавном, как только можно себе представить. Между прочим, наш маленький паж, наконец, признан, женщиною, но без брака, по-видимому, также и без девства, так как объявлен любовницей и необходимой для здоровья». – Я употребляю все возможные средства, чтобы удержать наше общество от частого и безмерного пьянства, но тщетно», – доносил секретарь, Шенборна, сопровождавший царевича.
Он ехал через Инсбрук, Мантую, Флоренцию, Рим. В полночь 6-го мая 1717 года прибыл в Неаполь и остановился в гостинице Трех Королей. Вечером на следующий день вывезен в наемной карете из города к морю, затем тайным ходом введен в королевский дворец, и оттуда, через два дня, по изготовлении особых покоев, в крепость Сант-Эльмо, стоявшую на высокой горе над Неаполем.
Хотя и здесь он жил под «невольницким лицом», но не скучал и не чувствовал себя в тюрьме; чем выше были стены и глубже рвы крепости, тем надежнее они защищали его от отца.
В покоях окна с крытым ходом перед ними выходили прямо на море. Здесь проводил он целые дни; кормил, так же, как, бывало, в Рождествене, отовсюду слетавшихся к нему и быстро прирученных им голубей, читал исторические и философские книги, пел псалмы и акафисты, глядел на Неаполь, на Везувий, на горевшие голубым огнем, точно сапфирные, Исхию, Прочиду, Капри, но больше всего на море – глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что он видит его в первый раз. Северное, серое, торговое, военное море Корабельного Регламента и петербургского Адмиралтейства, то, которое любил отец, – непохоже было на это южное, синее, вольное.
С ним была Евфросинья. Когда он забывал об отце, то был почти счастлив.
Ему удалось, хотя с большим трудом, выхлопотать для Алексея Юрова пропуск в Сант-Эльмо, несмотря на строжайшие караулы. Езопка сумел сделаться необходимым человеком: потешал Евфросинью, которая скучала, играл с нею в карты и шашки, забавлял ее шутками, сказками и баснями, как настоящий Эзоп.
Охотнее всего рассказывал он о своих путешествиях по Италии. Царевич слушал его с любопытством, снова переживая свои собственные впечатления. Как ни стремился Езопка в Россию, как ни тосковал о русской бане и водке, видно было, что и он, подобно царевичу, полюбил чужую землю, как родную, полюбил и Россию, вместе с Европою, новою всемирною любовью.
– Альпенскими горами путь зело прискорбен и труден, – описывал он перевал через Альпы. – Дорога самая тесная. С одной стороны – горы, облакам высокостью подобные, а по другую сторону – пропасти зело глубокие, в которых от течения быстрых вод шум непрестанный, как на мельнице. И от видения той глубокости приходит человеку великое ужасание. И на тех горах всегда лежит много снегов, потому что солнце промеж ими никогда лучами своими не осеняет…
– А как съехали с гор, на горах еще зима, а внизу уж лето красное. По обе стороны дороги виноградов и дерев плодовитых, лимонов, померанцев и всяких иных множество, и лозное плетение около дерев изрядными фигурами. Вся, почитай, Италия – единый сад, подобье рая Божьего! Марта в седьмой день видели плоды – лимоны и померанцы зрелые и мало недозрелые, и гораздо зеленые, и завязь, и цвет – все на одном дереве…
– Там, у самых гор, на месте красовитом, построен некий дом, именуемый виллою, зело господственный, изрядною архитектурою. И вокруг того дома – предивные сады и огороды: ходят в них гулять для прохладу. И в тех садах деревья учинены, по пропорции, и листья на них обрываны по пропорции ж. И цветы и травы сажены в горшках и ставлены архитектурально. Першпектива зело изрядная! И в тех же садах поделано фонтан преславных множество, из коих воды истекают зело чистые всякими хитрыми штуками. И вместо столпов, по дорогам ставлены мужики и девки мраморные: Иовиш, Бахус, Венус и иные всякие боги поганские работы изрядной, как живые. А те подобья древних лет из земли вырыты…
О Венеции он сказывал такие чудеса, что Евфросинья долго не верила и смешивала Венецию с Леденцом-городом, о котором говорится в русских сказках.
– Врешь ты все, Езопка! – смеялась она, но слушала с жадностью.
– Венеция вся стоит на море, и по всем улицам и переулкам – вода морская, и ездят в лодках. А лошадей и никакого скота нет; также карет, колясок, телег никаких нет, а саней и не знают. Воздух летом тягостен, и бывает дух зело грубый от гнилой воды, как и у нас, в Петербурге, от канавы Фонтанной, где засорено. И по всему городу есть много извозчичьих лодок, которые называются гундалами, а сделаны особою модою: длинны да узки, как бывают однодеревые лодки; нос и корма острые, на носу железный гребень, а на середине чердак с окончинами хрустальными и завесами камчатными; и те гундалы все черные, покрыты черными сукнами, похожи на гробы; а гребцы – один человек на носу, другой на корме гребет, стоя, тем же веслом и правит; а руля нет, однакож, и без него управляют изрядно…