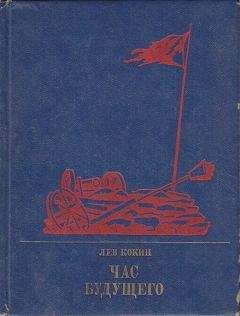— Как-никак я замужем за аптекарем, — улыбается ему Манж. — Можете быть спокойны за своего друга…
Когда Елизавета опять возвращается в мэрию, ее останавливает оборванный человек в кепи с галунами.
— Гражданка, есть тут кто-нибудь из членов Коммуны?
Они находят спящего в углу Шарля Гамбона.
— Гражданин, — расталкивает его офицер, — соберите людей на баррикаду Шато д'О, необходимо ее поддержать!
— Я пойду или кто другой, — говорит устало Гамбон, — не все ли равно?.. А я еще жив!
Елизавета идет с ними вместе, нацарапав на клочке записку Марселине Лелю:
«Соберите всех женщин и самый комитет и немедленно отправляйтесь на баррикады».
Но до площади они не дошли.
На полдороге, у церкви Сент-Амбруаз, где несколько часов назад покойный Делеклюз ободрял раненого Вермореля, их остановили последние защитники баррикады бульвара Вольтера, только что покинувшие ее.
Еще два дня и три ночи стреляла площадь Вольтера по версальцам, сначала в поддержку площади Бастилии, а потом по площади Трона, незамедлительно получая ответы. И хотя у каменного вольнодумца ядром снесло половину носа, саркастическая улыбка от этого не изменилась. Упорная батарея коммунаров даже отогнала красноштанников с площади Трона. Только утром 28 мая пушки возле мэрии Одиннадцатого округа замолкли совсем.
К этому утру пали баррикады на площади Бастилии и в Сент-Антуанском предместье, Шомонские высоты и кладбище Пер-Лашез, но еще отчаянно, из последних сил сопротивляясь, догорала Коммуна в рабочем предместье Тампль, в рабочем квартале Фоли-Мерикюр, в уголке рабочего квартала Бельвиль.
В остальных кварталах Парижа стрельба означала уже не сражение, а расправу. К этому утру тела тысяч расстрелянных устилали собою траву парка Монсо и монмартрских холмов, ухоженные дорожки Люксембургского сада, Марсова поля, кладбища Пер-Лашез, глухие каменные дворы казарм.
Незадолго до этого дождливого утра Виктор Жаклар после безуспешных попыток вырваться из оцепленного квартала вбежал к знакомой консьержке в последний дом на бульваре Вольтера, где под видом больного родственника третий день лежал раненый Верморель. А Элизу Дмитриеву и Анну Жаклар постоянные жительницы бульвара в темноте проводили проходными дворами в квартиры к надежным людям. Но в этих кварталах, где немало надежных людей, никто не мог быть уверен в надежности убежищ. Начались повальные обыски. Пока нечего было и думать о том, чтобы выбраться из Парижа, говорили, что даже торговки овощами негодуют: к ним из пригородов не пропускают огородников с товаром. А женщинам появляться на улицах опасно вдвойне. Газетомараки продолжали писать о мегере, у которой при аресте нашли в карманах сто метров фитиля, и других, что скользят вдоль домов с фитилями и керосином… Но Елизавета и Анна, приведя себя, насколько возможно, в порядок, посылают мальчишку за фиакром и средь бела дня отправляются на извозчике в центр.
— Вера Воронцова должна нам помочь, — твердит Анна, — необходимо повидаться с Верой.
Она в непрерывной тревоге за мужа.
Чудо уже то, что они без приключений уселись в фиакр. На перекрестках патрули версальцев, на площадях заставы и бивуаки — разбиты палатки, солдаты спят на тротуарах, горланят песни, варят еду. Ближе к центру улицы выглядят более обычно, только почти из каждого окна свешиваются трехцветные флаги. А красного здесь теперь не увидишь.
На Больших бульварах торжествующая толпа. Разодетые дамы в экстазе чуть ли не целуют сапоги конным жандармам. Вот на террасах кафе красно — от офицерских мундиров. А где-то в соседнем квартале слышны залпы… там, должно быть, красно от крови.
Ужасно, ужасно…
Вера Воронцова встречает гостей цитатою из Тацита: «Там мертвые и раненые, здесь бесстыжие девки и кабаки».
— Я ждала вас, — говорит, целуя их, Вера, — я не знала, как вас найти, у меня для вас приготовлено вот это.
И она протянула Анне бумагу в печатях. Это пропуск, по которому разрешается выехать из Парижа мадемуазель Воронцовой, направляющейся в Гейдельберг.
— Я просила об этом Леони Дантес, едва отец ее возвратился в четверг из Версаля, я просила, чтобы Леони выхлопотала такую же бумагу еще и на свое имя. Но барон ей сказал, что сейчас пока разъезжать опасно, но что скоро они вместе отправятся на лето к себе в Сультц, в Эльзас… Они ведь оттуда.
Повертев бумагу в руках, Анна передала ее Елизавете.
— Для вас просто счастливая находка, Лиза. С этим пропуском даже вы преспокойно выберетесь отсюда. А я… Вы же понимаете, как можно оставить Виктора у этой консьержки. Бог знает, что еще случится — в любой момент, в любой момент!..
— А как же вы, Вера?
— Мне, собственно, ничто не грозит, если я чем-то и помогала Коммуне, то только ее раненым… Нет, я прекрасно проживу и в Париже!
В гардеробе Веры они находят платье для Елизаветы. Оно не вполне ей впору, но достаточно нескольких булавок, иголки с ниткой, горячего утюга, чтобы где-то что-то подтянуть, загладить, убавить, сделать оборочку или складку. В этом платье как богатая дама она готова отправиться в фиакре в Бельвиль, по тому адресу, что просил ее запомнить Франкель. Прощай, Елизавета Дмитриева, и если от тебя не отвернется фортуна, то прощай навсегда!
C пропуском Веры она почувствовала себя куда увереннее, чем прежде, даже решилась сделать по дороге крюк, и немалый, заглянуть в меблированный дом «Швеция» на набережную Сен-Мишель. В этом неудержимом круговороте событий она не только опять потеряла бывшего поручика из виду (что было отнюдь не мудрено), но и вовсе забыла думать о нем, и ни разу, должно быть, не вспомнила до того самого момента, пока Лео Франкель по дороге с бульвара Вольтера на площадь Бастилии не сказал ей адрес в Бельвиле, — и тут ей невольно пришел на ум еще один адрес, на набережной Сен-Мишель, еще одно убежище про запас, о котором позаботился Александр Константинович накануне вступления версальцев в Париж… Теперь следовало предупредить его, чтобы не ждал больше. О том, что он мог не дождаться в круговерти кровавой недели, невзирая на все свои клятвы, эта простая мысль как-то не посетила ее, и она удивилась испугу хозяина в ответ на ее вопрос о месье Александр Федотофф. Его давно уже здесь нет, он давно уже съехал, ничего невозможно сказать о нем! Ах, Александр Константинович, ах, обманщик, хороша бы она была, если бы вынуждена была рассчитывать на него! Впрочем, сказала она себе, вновь усаживаясь в фиакр, надо быть справедливой, он ведь мог заходить к ней на бульвар Сент-Уэн, если, разумеется, сумел пробраться туда, и точно так же ее не застать, как не застала она нынче его, и даже не меньше напугать хозяйку расспросами… А могло быть и так, что он все же послушался тогда ее совета и ушел-таки умирать за свободу к Домбровскому в Нейи?! Правда, это предположение весьма сомнительно.
В Бельвиле она отпустила фиакр, не доехав немного до нужного дома.
Встречи с Франкелем пришлось ждать до вечера. Он сбрил бороду, она не сразу его узнала. Посмеявшись по этому поводу, Елизавета предложила попытать счастья вместе.
— С таким пропуском?
— Вам он не нравится, Лео?
Спору нет, пропуск прекрасен — но лишь для одинокой мадемуазель. Будь он, Лео, версальский патруль или прусский, он бы первым делом поинтересовался, а что за подозрительная личность сопровождает мадемуазель Воронцову. Нет, он не хочет ее погубить. Тем более у него есть свой собственный план. Выезжать надо порознь.
Условились встретиться по дороге в Мо, миновав линию прусских войск, где-нибудь за Ливри, а может быть, и за Вожури. Так советовал хозяин квартиры, товарищ Франкеля, знавший эти места.
И вот, благополучно проехав заставы версальцев и пруссаков, предъявив раз пять магический пропуск и с благосклонностью выслушав в ответ армейские любезности офицеров обеих еще недавно вражеских армий, «направляющаяся в Гейдельберг мадемуазель Воронцова» с бьющимся сердцем подъезжала к условному месту свидания, и — о, чудо! — свидание состоялось, словно это была загородная прогулка, пикник!
Изобразив перед возницей радостное удивление по поводу столь счастливой случайности, как нежданная встреча, Лео Франкель собственною персоной впрыгнул к Елизавете в экипаж. Он выбрался из Парижа куда более хитроумными путями, нежели она, о чем тут же с несвойственным ему возбуждением принялся рассказывать на своем родном южнонемецком. Ее немецкий, кстати, был тоже неплох, как говорится, с материнским молоком впитан. Он еще держал перекинутым через руку (через раненую руку) плащ баварского драгуна (что помогало скрывать ранение), в котором только что проследовал через прусские аванпосты в покрытой брезентом лазаретной повозке вместе с транспортом раненых.