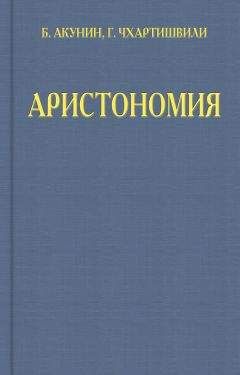Пока товарищ Рогачов в санузле отсутствовал (а там, эх, зеркало с золотыми завитками во всю стену, картинки на стене Софины, с кошечками!), Филипп в комнате сделал, что успел: граммофон сунул в кладовку, ковер со стены сорвал, под кровать запихнул, на тумбочку кинул, стряхнув пыль, второй том «Капитала». Хотел еще с накрытого, как обычно, стола бутылку рябиновой и блюдо с осетриной убрать, но Софа вцепилась, зашептала: «Ты что! У меня и так ничего приличного. Хоть бы предупредил, какой гость будет!»
Только и успел на нее шикнуть «дура!» – как вошел Панкрат Евтихьевич, руки носовым платком вытирает.
– У вас там полотенце столь ослепительной белизны, что не решился воспользоваться. Ручку на авто крутил, маслом запачкался.
Тут Муня подошла, чуя от хозяев к новому человеку особенное отношение, и тоже проявила гостеприимство: потерлась о сапог, вежливо поурчала.
– Ишь ты, и кошка у тебя есть, – усмехнулся Рогачов.
А у Бляхина – будто кошка острыми когтями скребанула, по сердцу.
– Вот она, папка, – сказал он деловито. – Ночь прошлую не поспал, всё вами веленное исполнил.
– Уютно у вас тут. Жалко уходить. – Рогачов оглядывался, улыбаясь какой-то не своей улыбкой. Филипп никогда раньше у него такого выражения на лице не видывал. – Однако надо ехать.
– Покушали бы. – Софа показала на стол. – Если времени мало, хоть закусок. А то котлеток разогрею, быстро. У нас плита отличная, американская. Такая быстрая!
– Торопимся мы, красавица. Некогда.
– Как хотите, а напусто не отпущу, грех это, – решительно сказала Софа. – С собой соберу. Одну минуту только дайте. Хоть по часам смотрите.
– Шестьдесят секунд – это можно.
Товарищ Рогачов засмеялся, щелкнул крышкой наградного хронометра. Но глядел не на стрелку, а на Софочку, с удовольствием.
Она быстро и ловко сделала сверток: хлеб, ветчина, сыр, шесть пирожков, соленые огурчики. Управилась ровно за минуту. И сверток получился красивый – как подарок из магазина.
Филипп смотрел на нее, гордился. Тем более что недобрых огоньков, каких он так боялся, в глазах у товарища Рогачова вроде бы не зажглось.
По пути в наркомат Бляхин еще опасался, поглядывал в затылок начальнику с тревогой.
А Панкрат Евтихьевич помолчал-помолчал, о чем-то размышляя, и говорит:
– Правильно делаешь, Бляхин. Живи. Не бери с меня, дурака, пример. А то так и просражаешься за светлое будущее до старости, не увидишь жизни. – И обернулся, нисколько не сердитый. – Ты, наверно, хочешь со своей красавицей побольше времени проводить, а я тебя с утра до утра, в хвост и в гриву. Ты отпрашивайся, не робей. Когда ситуация позволяет – буду отпускать.
Вот это Филиппу сильно не понравилось. Не того он, оказывается, боялся. Мебелей-картинок товарищ Рогачов, поди, и не заметил, у него взгляд по-другому устроен. Но другой интерес в бляхинской жизни почуял. А это плохо, опасно. Не должно быть у Филиппа никаких интересов кроме тех, что нужны и важны начальнику. На том с восемнадцатого года и держимся.
– Мне, Панкрат Евтихьевич, на всё, кроме работы, с прибором покласть, – буркнул он сурово. – И на красавицу тоже. Незачем мне от нашего дела отпрашиваться.
Рогачов рассеянно сказал, думая уже про другое:
– Ну-ну. Тогда папку в зубы и за мной.
Они уже подъезжали к наркоматовской парадной.
* * *
Закончили работу над списком поздно ночью. И хоть был уже третий час, отправился Бляхин с папкой к товарищу Мягкову – там ждали, уже несколько раз звонили. Время сейчас горячее, спать некогда.
Идти было близко, через площадь.
Там, в ЦК, Бляхину показалось странно. Снаружи посмотреть – окна темные, вроде и свет не горит, а вошел – мама родная! Шторы плотно задвинуты, поэтому с площади и кажется, что электричество выключено, а внутри, особенно на этаже Орготдела, осиный рой: пишущие машинки стучат, телефоны звонят, телеграф стрекочет, порученцы с бумагами носятся. В приемной у товарища Мягкова очередь на стульях, и люди всё серьезные – сразу видно.
Вот она где, настоящая сила. Мозг, сердце, железный желудок власти.
Филипп спокойно так, уверенно направился прямо к секретарскому столу, поручкался с Унтеровым.
Тот кивнул:
– Принес? Сейчас доложу.
Заглянул к начальнику, через полминутки вышел и сразу поманил: давай, заходи.
Приосанившись, на глазах у очереди, Бляхин с непроницаемым лицом прошел за мягкобесшумную кожаную дверь.
Внутри над столом сиял приятный зеленый свет, озаряя зеленое же сукно стола. Блестел бритый череп большого человека, черными искрами посверкивали телефоны, и было их вдвое больше, чем на столе у товарища Рогачова.
– Здравия желаю, Карп Тимофеевич, – почти по-военному поздоровался Филипп. – Вот, подготовили.
Мягков одной рукой прижимал к уху трубку, другой чиркал красным карандашом по бумаге.
– Ага, – сказал, – понятненько.
Не Бляхину, а в трубку. Филиппу же помахал карандашом: папку – на стол, сам – в кресло сядь.
Сел, как сидел бы на табуретке: спина прямая, немножко наклоненная вперед.
– Ну, это ты боженьке на том свете пожалуешься, – хихикнул товарищ Мягков. Он был мирный, довольный, нисколько не усталый. Видно, что человек занимается своим делом, которое любит и в котором мастер. Шевелит людьми, организует, выстраивает. – Теперь доложи про сучьего потроха Максимова, и тогда иди, долечивайся.
Это который же Максимов теперь у нас сучий потрох, прикидывал Бляхин, скромно глядя вниз, на свои руки, сложенные на коленках. Который сибирский красный герой или который кандидат в члены ЦК? Надо бы установить. Пригодится. А что товарищ Мягков при Филиппе не опасается такие вещи говорить, это было ценно и лестно. Значит, совсем за своего считает.
Карандаш уже прыгал по их с товарищ-Рогачовым списку, что-то там окружал кружочками, а что-то подчеркивал.
– Ясно, – мурлыкнул Карп Тимофеевич. – Всё, свободен.
Положил трубку и одновременно с этим отложил карандаш. Значит, список уже отработан. Вот какой это был человек, Мягков – никогда не торопился, а всё поспевал.
– Толково, толково, – сказал он уже Бляхину, возвращая папку. – Отнесешь Панкрату, пусть мои пометки посмотрит. А насчет тех, которые в кружке, я с ним по вертушке поговорю.
«Вертушка» было слово новое, важное для тех, кто понимает. Такой специальный телефон, который работает не через оператора, а напрямую – вертишь диск с цифрами и сразу попадаешь к кому нужно, к абоненту особой сети. На весь СССР таких людей максимум человек триста. Они и есть – государство.
– Через пять минут будет у Панкрат Евтихьича, – поднялся из кресла Филипп, всем видом являя, что не желает у занятого человека отнимать ни секундочки лишнего времени.
– Погоди ты, сядь, – по-доброму улыбнулся ему товарищ Мягков. – Давно с тобой потолковать хочу не по делу, а по-людски. Всё бегаем, суетимся, времени вечно нет, а кроме работы есть еще и товарищеские отношения.
Бляхин сел обратно, внутренне мобилизовался. Раньше Мягков никогда с ним так не разговаривал, а он зря ничего не делает.
– Нравишься ты мне, Филипп. – (Ого, и имя помнит!) – И не только потому, что хороший работник. А потому что вижу: любишь ты Панкрата всем сердцем, заботишься о нем, не побоюсь сказать, по-матерински. Он в некоторых делах и есть малое дитя, за которым доглядывать надо, – душевно улыбнулся Мягков. – Чтоб вовремя поел, тепло оделся, сколько-нисколько поспал. Незаменимый ты для Рогачова помощник, Филипп. А поскольку Панкрат для партии – как алмаз драгоценный, то получается, что ты – золотая для алмаза оправа. Да, Бляхин, люди вроде тебя – золотой запас нашей партии. Это недавно Сам так сказал, по другому поводу. Товарищ Сталин! – Он со значением поднял палец.
Сладкая тревога – вот что ощущал сейчас Бляхин всем чревом. Что-то дальше последует?
– Я, Филипп Панкратович, советы редко кому даю. – (И отчество знает!) – Потому что у каждого своя жизнь, и кому судьба потонуть – пускай тонет. А тебе посоветую, из большого к тебе расположения. – Оказывается, Мягков уже не улыбался. То есть пухлые губы были еще раздвинуты, но маленькие глаза из-за мятых век глядели нешутливо. – Не валяй дурака. Не ставь крест на своем будущем. Избавься от своей поповны, пока не поздно. Зачем тебе при самом начале подъема такое обременение? Короче, сам решай. Знай только: я добра тебе желаю. Всё, ступай к Рогачову. Скажи, в четыре ноль-ноль позвоню.
И опустил круглую голову, потянул из стопки какую-то другую папку, сунул в рот незажженную трубку. Перестал обращать на маленького человека внимание.
Бляхин вышел на плохо гнущихся ногах. В приемной кивнул Унтерову на какой-то вопрос, которого не расслышал.
– Вот те на, вот те на́… – бормотал он, спускаясь по лестнице.