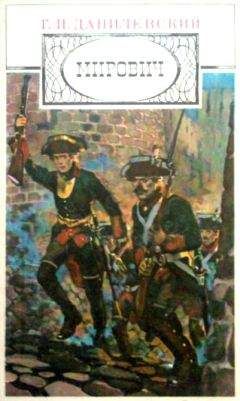Унесённый волнами народа, Ломоносов очутился у фонарного столба в Морской, на углу разъездной дворцовой площади. Перед ним по Невскому равнялись шеренги преображенцев, семёновцев и конной гвардии; направо, по Морской, – измайловцы, артиллерия и армейские полки.
Кто-то тронул Ломоносова за плечо. Он оглянулся; перед ним стоял Фонвизин.
– Каковы события, каковы! – сказал Денис Иваныч.
– Да, смуты и всякой сутолочи немало! – досадливо ответил Ломоносов, вспоминая о Теплове. – Мах-мах, и увезли, начали новое царение. Всё это больно уж скоро…
– Не понимаю вас, – удивлённо произнёс Фонвизин.
– Не понимаете? А как те-то, сударь, одумаются и пойдут сюда из Рамбова?
– Да кому идти?
– Как кому? У Петра Фёдорыча, друг мой, с голштинцами, помните, более пяти тысяч войска.
– Отстоим, Михайло Васильич, что вы, отстоим! – сказал Фонвизин. – Город оцеплен, и к государыне то и дело подводят языков… слышали, сколько уж явилось с покорностью?.. Оба Шуваловы, Трубецкой, Воронцов; в Кронштадт послан адмирал Иван Лукьяныч Талызин[180] – привести флот к присяге.
– А Миних? – сердито подняв брови, произнёс Ломоносов. – Он один, сударь, чего стоит!
– Что Миних! Старый немчик!.. мы и его…
– Ну, не суди так зазорно! Минихами, брат, не очень-то шутят… Они…
Ломоносов не договорил.
Дворцовая площадь, как по мановению волшебного жезла, вдруг смолкла. Взоры всех обратились к крытому парадному подъезду, выходившему на Морскую. Был девятый час вечера, но на улице было светло. Ломоносов опять где-то в толпе увидел Пчёлкину.
На подъезде в кругу сенаторов, генералитета и первых чинов двора показались два невысокого роста, в лентах и светло-зелёных гвардейских кафтанах, офицера: один живой и худенький, другой плотнее и с виду представительный и важный.
– Батюшки, да ведь это государыня и Дашкова! – произнёс, прикипев на месте, Фонвизин. Он ухватил мягкою, тёплою рукой похолоделую, жилистую руку Ломоносова и более не мог промолвить ни слова.
Екатерина была одета в Преображенский, старой формы кафтан капитана Петра Фёдорыча Талызина; Дашкова – в такой же кафтан лейтенанта Андрея Фёдорыча Пушкина. Придворные рейткнехты[181] подвели к крыльцу белого, в тёмных яблоках, и светло-гнедого коней.
– Садится, садится верхом! – пронеслось в толпе. – Откушала, пресветлая, у окон-то: с улицы было видно…
– Да куда же это?
– В поход, видно…
– В какой?
– Отстаньте, что вы, право!..
Екатерина села на белого, Дашкова – на гнедого коня. Обе отъехали несколько шагов к Невскому и остановились. Волосы Дашковой были подобраны под шляпу. Развитые, светло-русые косы Екатерины густыми, волнистыми прядями падали из-под треугола на зелёный с красным воротом кафтан. Через плечо императрицы была надета андреевская голубая лента.
– Слу-шай! На кра-ул! – раздались слова командира.
Ружья звякнули. Войско отдало честь государыне.
Екатерина, с улыбкой взглянув на Дашкову, ловко вынула из ножен шпагу, хотела её поднять и смешалась. Краска залила ей лицо. Шпага оказалась без темляка.
– Темляк, темляк! – пронеслось в ближних рядах.
Из передней шеренги конногвардейцев, на большом, раскормленном вороном коне, вылетел и подскакал к императрице моложавый и, как девушка, застенчивый, близорукий, круглолицый вахмистр. Он снял с собственного палаша темляк и, приподняв шляпу, дрожавшей рукой почтительно подал его государыне.
– Благодарю! – сказала Екатерина, сдержав лошадь и ласково кивнув ему через плечо.
– Кто это? Кто? – заговорили в рядах.
– Батюшки светы! – произнёс, всплеснув руками, Фонвизин. – Да ведь это наш кандидат в архиереи…
– А ты нешто его знаешь? – спросил Ломоносов.
– Как не знать! За леность и повседневное нехождение в классы, вместе с Новиковым, выключен из наших московских студентов, а теперь масон и друг Орловых.
Кандидат в архиереи в эту минуту был в большом затруднении. Его молодой вороной, став рядом с белым конём императрицы, решительно не хотел отъезжать прочь. Он тронул его шпорами, – конь подался вперёд, фыркнул, но, помня манежную езду, замотал головой и осел назад. Он дал ему шенкеля, конь взвился на дыбы, и опять ни с места.
– Не судьба, сударь, – желая одобрить растерявшегося вахмистра, с улыбкой сказала Екатерина. – Ваша фамилия?
– Потёмкин! – вспыхнув по уши и заморгав большими близорукими глазами, ответил с рукой у треугола белолицый и чернобровый вахмистр.
Екатерина прикрепила темляк, подняла шпагу и смело, одобрительно-приветливо взглянула на окружавших, на публику и генералитет.
Это была уже не жалкая, в траурном платье, гонимая женщина, а величавая, гордая орлица, готовая взмахнуть крыльями и подняться в недосягаемую высь. Она, глядя всё так же смело и приветливо, как бы салютуя, повела шпагой, тронула поводом и шагом двинулась вправо по Невскому. Свита, волнуясь разнообразными мундирами, лентами и звёздами, верхами последовала за ней. Кто-то, проезжая мимо Ломоносова, сказал соседу, указывая на императрицу:
– Перст Божий, промысел…
«Увидим ещё, увидим! – думала невдали от него, глядя на общее ликование, Пчёлкина. – Дашковой тоже припомню, выйдет иной фантом… о нём забыли… но он воскреснет, жив!..»
– Смирно! Фронт, готовьсь! Мушкет на пле-чо! – раздалась по полкам разноголосая, на тогдашний лад, команда начальников пеших и конных частей.
– Через плутонг[182], направо, ряды вздвой… Левое плечо вперёд, кругом… скорым шагом, прямо, марш!
Колонны двинулись, стали равняться. Загремели барабаны, засвистели флейточки. Хор трубачей впереди полков, предводимых гетманом и князем Волконским, заиграл походный марш великого Петра.
Сперва гвардия, пешая и конная, потом армейские полки пошли вслед за императрицей. Они обогнули от Морской по Невскому и миновали зимний Елисаветинский дворец. Екатерина въехала на Полицейский мост. Невский, в последнем отблеске заката, глядел празднично. Трубы и барабаны гремели. Знамёна развевались. Екатерина издали вся была ясно видна, на белом в яблоках, статном коне, – в ленте, со шпагой в руке и с пышными русыми косами, падавшими на зелёный с золотом кафтан.
«И это она! – мыслила, едучи рядом с Екатериной и поглядывая на неё, Дашкова. – Она, та самая, что третьего дня мыла рукавчики… а сегодня, а теперь?.. Как нежданно, как чудно она, она, мой идеал, мой друг, переродилась! Кто ожидал? Сколько смелости, отваги! История отметит. И мне одной она обязана своей свободой и этим, даже мне самой непонятным и необъяснённым перерождением!..»
– Куда это, куда? – окликнул кто-то из опоздавшей знати Ивана Ивановича Шувалова, который у дворцовой площади торопливо и неуклюже влезал, при помощи слуги, на подведённого коня.
– В поход, князенька! – неохотно ответил, махнув рукой, Шувалов.
– Как в поход? Куда?
– В Рамбов, батюшка! И что пристаёшь? mille diables[183] некогда, – ещё досадливее сказал Шувалов, неумело болтая толстыми в чулках ногами и догоняя шествие.
Мимо Ломоносова двигались роты за ротами, эскадроны за эскадронами. Он не отходил от угла разъездной площадки.
– Вот бы, Михайло Васильич, вам воспеть нашу радость, нашу богиню! – кто-то восторженно крикнул ему из двигавшихся пехотных рядов.
Ломоносов оглянулся. Мимо него, в темп поспевая за товарищами, с ружьём на плече, по разъезженному булыжнику быстро шагал в пыли раскрасневшийся, длинноногий Державин.
– Видели? – спросил он, равняясь и меняя ногу. – Этот конь, эта шпага и эти распущенные косы… Не правда ли, героиня древности, Минерва! Фелица![184]
Войска шли, клики не умолкали, барабаны гремели по Невскому.
Преображенский рядовой, будущий певец этой самой Фелицы, забыл в эти мгновения бессонницу ночи, пропавшие деньги и то, что он с утра не пил и не ел, и всё… Он не спускал глаз с длинных русых кос, развевавшихся вдали из-под треугола, и лихо, бодро шёл, не чувствуя под собою ног и, в трепете зарождавшегося вдохновения, желая, чтобы это сказочное шествие было нескончаемо, вечно…
Чтоб шлем блистал на ней, пернатый,
Зефиры веяли власы…
Чтоб конь под ней главой крутился
И бурно брозды опенял…
– Воспеть! Да, друг мой, стоит ироической, в потомство идущей, громкой оды! – сказал Фонвизину, смигивая слёзы, Ломоносов. – Сказка Шехерезады, сон…
Оба они пошли с народом за войском, но не видели ни войска, ни народа. В их глазах как бы намечались и дивно строились очертания чего-то великого, нового и непостижимого. Придя домой, Ломоносов порвал и сжёг латинскую речь в честь Третьего Петра и начал новую оду: