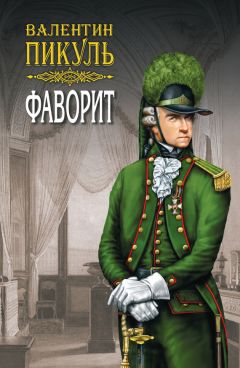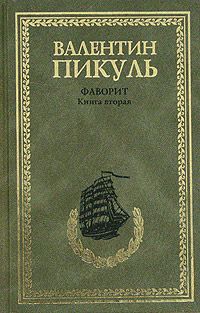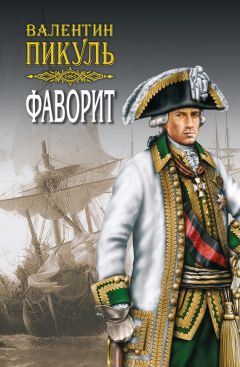– А книжки не продашь ли? Зачем они тебе?
– Нет уж, сударь ласковый, – отвечал парень. – Я и сам до чтения охоту имею несказанную. Вот и купил.
– А что за книжки, покажи-кась.
– Извольте, ежели в латыни смыслите…
Шувалов был потрясен: простой деревенский парень, откуда же в нем знание латыни и такая самоуверенность в себе?
– Кто ж ты будешь-то, человек?
– А я, сударь, есть крестьянин Иван Свешников, по батюшке Евстратьевич… Латынь с детства постиг, от священника. Мне и немецкий с французским ведомы. Греческий тоже.
– Зачем же, Евстратьевич, в столицу пожаловали?
– Эвон барка моя стоит. Вчера из Торжка приплыли…
В руке парня был узелок. Внутри его оказался мох, песок речной и соломка.
– Я, сударь, картины составляю живые. Краски-то дороги, да и понять их трудно, так я картины из натуральных предметов складываю… Землякам нравится! Пуще всего Ломоносова я люблю, – сказал Свешников, – и хотя в словесности российской свой навык имею, но Ломоносова изо всех творцов выделяю. А ведь он тоже, красок избегая, мозаики делал…
Иван Иванович оглядел старые, обтерханные барки.
– Вот что! Ты, молодец, о Шувалове слыхал ли?
– Земля, вестимо, слухами полнится.
– Так я и есть Иван Иваныч Шувалов… не граф!
– Смешно мне, – не поверил ему Свешников.
– Смейся, сколько хочешь, а сейчас пошли…
– Куда?
– Ко мне. В гости. Там и поверишь…
В доме Шувалова – библиотека с окнами, выходящими на Невский, множество картин и портретная галерея. На одной из картин – сцена: в горах Швейцарии рушится в пропасть карета, но ее спасает от гибели гайдук гигантского роста.
– Гайдук этот, – сказал Шувалов, – играл сейчас со швейцаром в шахматы, когда мы через вестибюль проходили.
– А это с кем вы? – показал парень на другую картину.
– Это я на приеме у римского папы. Ну, поверил?
– Да вроде бы, – застенчиво улыбнулся Свешников.
– Тогда, сударь, прошу к столу моему…
При клубнике и ананасах подавали печеный картофель с грибами сыроежками. Свободное за столом место вдруг решительно занял вошедший в залу очень высокий человек с повязкою на лбу. Шувалов указал на него вилкою:
– Кстати, друг милый, ежели светлейший князь Потемкин еще незнакомец твой, так вот он – напротив тебя расселся. Григория Александровича я нарочно повесткою позвал.
– Мне бы еще Леонарда Эйлера повидать, – сказал Иван Евстратьевич. – Имею некоторые сомнения в теории Ньютона, да и с Эйлером не всегда я согласен…
– Едем! – вскочил Потемкин. – Прямо от стола, едем же…
Возле слепого Эйлера хлопотали внучки. Великий математик говорил со Свешниковым по-латыни, затем перешел на немецкий язык. Шувалов с Потемкиным ничего из их диспута научного не поняли. Эйлер повернулся к вельможам:
– Перед нами – гений! – сказал он по-русски…
Молчаливые, возвращались через наплавной мост.
– Ежели на Руси новый Ломоносов объявился, его надобно беречь не так, как я свой глаз берег, а так беречь, как я свой последний глаз берегу… Поехали ко мне!
– Не ты, светлейший, – ответил князю Шувалов, – сыскал Ивана Евстратьевича, потому гений у меня в доме и останется.
От ночлега в барских палатах Свешников отнекался и, как ни уговаривал его Шувалов, все-таки пошел спать в лакейскую. Все свободное время он проводил в библиотеке Ивана Ивановича, а столица уже гудела, встревоженная: слава богу, дождались и нового Ломоносова. Потемкин в ближайшие дни отвез Свешникова в Зимний дворец. Екатерина была настроена решительно.
– Кесарю кесарево, а богу богово, – сказала она. – Если Свешников мудрен, так и разговоров долгих не будет…
Она сразу указала давать Свешникову по 600 рублей в год «пожизненного вспомоществования», велела ему ехать в Англию, дабы приобщиться к научным достижениям, а потом – прямая дорога в Академию. Потемкин сам и провожал парня на корабль:
– Когда воротишься, ни к кому не ходи. Ступай ко мне. А если швейцары держать станут, стели их кулаком в ухо и шагай ко мне смело. Мы с тобою, Ванюшка, еще таких чудес натворим!
* * *
Никогда еще не было так тошно князю Потемкину.
Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость;
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость.
Он заказал себе новый кафтан за восемь тысяч рублей, обшитый стразами и серебром по швам (в четыре пальца шириною); облачась в обнову – босой! – шлялся по комнатам, грыз ногти. Отчего такая печаль? Светлейший страдал от зависти. Державину, Гавриле шлепогубому, завидовал:
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет и к гробу приближает.
Жил-был князь Мещерский, любил выпить лишку, поесть сладко. Умер он, и бог с ним. Но Державин инако взглянул на смерть:
Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает;
Монарх и узник – снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает.
– Снедь червей, – твердил Потемкин. – Ах, Гаврила… Где слова такие сыскал ты?
Дождливая осень истекала дождями, небо хмурилось. Из Херсона приехал Рубан, с ним и директор Академии Домашнев, – оба продрогли в дороге, рассказывали, что в Херсоне заложен собор, французы торопятся торговать с Россией из Марселя, с дровами на юге плохо, кто ворует щепки на верфях, кто кизяк да камыш на зиму запасает… Рубан говорил:
– И деточки малые с ведрами по улицам городов шастают, навоз животный чуть ли не из-под хвоста в ведра сбирают, зимою и будут топить им печки, коли дровишек нету.
Потемкин расхаживал, думал, грыз ногти:
– Это моя вина: о дровах я совсем забыл…
Из Лозанны привезли в свинцовом гробу тело жены князя Григория Орлова – урожденной Екатерины Зиновьевой: шарлатаны, лечившие от бесплодия, все-таки домучили ее до конца; несчастную закопали в Александро-Невской лавре подле герцогини Курляндской Евдокии из дома князей Юсуповых… Опять начинался дождь. Потемкин, стоя над могилой, глянул на Ланского: тоже «снедь червей».
– Гляди, Сашка, смерть-то какова! Гадкая…
– Мне ли о ней думать? Я еще молоденький.
– Ну и дурак. А до старости не дотянешь. Был тебе хороший случай от молнии сгинуть, так проскочил ты мимо смерти своей. А умирает человек в смерди и пакости… Ты это помни: ничто от роковых когтей, никака тварь не убегает!
Екатерина накинула на голову капор (от дождя):
– Будет вам! Что вы о неизбежном спорите? Здравые люди вроде бы, а послушать вас – так и жить не хочется… Ты лучше о другом, светлейший, помысли: герцог Курляндский третью жену взял, молоденькую, из дома баронов Медемов, и она его по пьяной морде лупит, чтобы от вина отучить, а приплод Биронов уже велик. При наличии «фюрстенбунда» германского не переметнется ли Курляндия в сторону союза с пруссаками… Вот тогда, Либавского порта лишась, мы локти себе покусаем!
– Войска в Митаву ввести бы нам, – ответил Потемкин.
– Да уж надоело мне в газетах читать, будто я захватчица и всюду со штыками своими суюсь… А корону герцогскую Петр Бирон просто так под забором не оставит.
– Обменяй ему корону на ключ своего камергера.
– Шутишь? А что в Европе-то скажут?
– Скажут, что мы плевать на нее хотели…
Из уральских владений в столицу вернулся Александр Сергеевич Строганов, в дар Эрмитажу привез он серебряные вазы древнейшей чеканки и очень странный щит, на котором изображалась борьба Аякса и Улисса за оружие Ахиллеса.
– Кого обворовал, Саня? – спросила его Екатерина.
– Было бы где такое украсть… А это ведь рабочие мои с Урала при копании рудников в глубине земли обнаружили.
– Все в землю, и все из земли, – буркнул Потемкин.
– Хватит тебе о смерти-то! – обозлилась императрица…
Всюду говорили, что граф Скавронский, объявленный женихом Катеньки Энгельгардт, хворает и не вечен. Невеста была в любви холодна. Напрасно дядюшка осыпал ее драгоценностями, побуждая к веселью. Катька валялась на постели, грызла яблоки и пальчиком, словно гадких пауков, отшвыривала от себя бриллианты:
– Ах, на што мне они, дядюшка?..
Русский двор оживило явление поляков. В богатых кунтушах, с головами, бритыми наголо (по древней моде, еще сарматской), паны вежливо позванивали во дворце саблями, угодливые и красноречивые. Приехали женихами: невест поискать! Возглавлял эту ватагу граф Ксаверий Браницкий, гетман коронный, уже в летах человек.
Потемкин всегда привечал поляков с радушием:
– Щацунек, панове… мое почтение, господа!
Светлейший давно уже мечтал породниться с ясновельможными, с умыслом он показал графу на Саньку Энгельгардт:
– Погляди, Ксаверий Петрович, какова стать и осанка! Будто не в лопухах родилась, а сам Пракситель из мрамора сделал.
Браницкий закрутил ус и заложил его за ухо.
– Добже, светне, – восхитился он молодицей.
– Так бери ее… пока не испортилась!