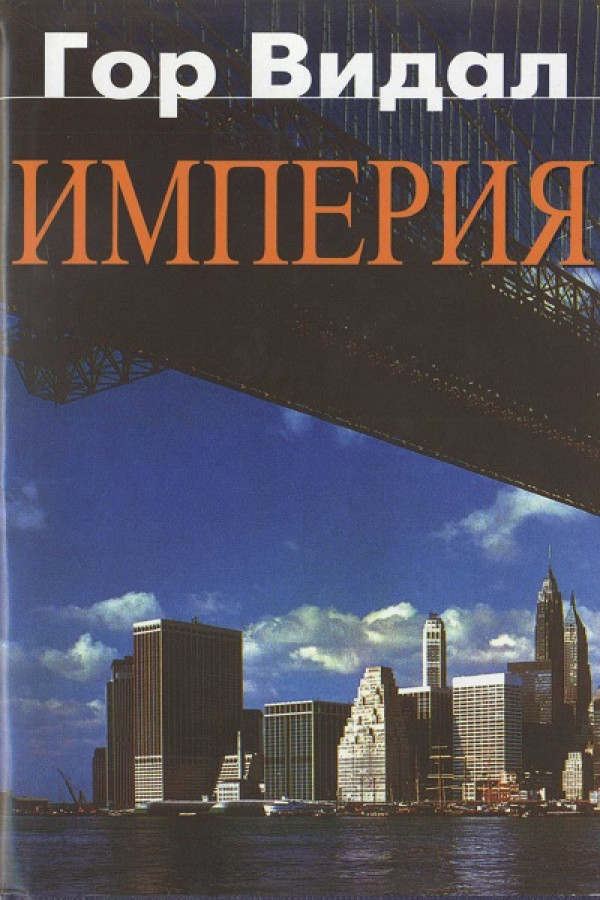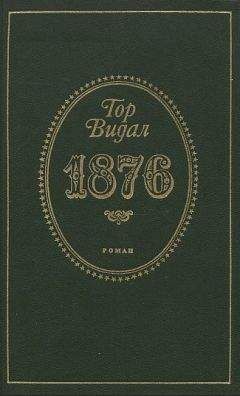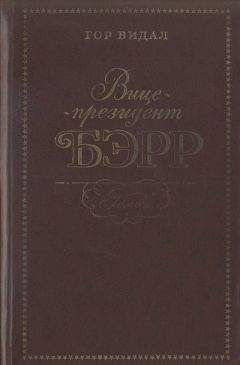избирательных кампаний стали обычными преступлениями, и эти разоблачения на короткое время ставили в неловкое положение того или иного законодателя, но никогда не причиняли им серьезного ущерба. Американцы всегда считали, что их выборные представители продажны: они сами поступали бы точно так же на их месте. И рядовые граждане каждодневно обжуливали друг друга, всучивали товары, не обладающие разрекламированными достоинствами, да и во всех других отношениях вели себя, как и их правители. Если Клей Овербэри смог разыграть из себя героя войны и попасть в сенат, размышляли они, он заслужил большую власть. В конце концов, он ничем не отличался от торговца подержанными автомобилями, который наживается на том, что не в силах уже исправно служить своему хозяину. Лозунг «Если не можешь быть честным, будь по крайней мере осторожным» стал воплощенной мудростью нации, и ведь действительно глупо, если тебя ловят на месте преступления. Бэрден абсолютно не был убежден и в том, что Клей потерпел бы поражение, если бы не сбежал на спасительную войну. Людей, похоже, совершенно перестали интересовать принципы морали. Нужно только побеждать, и Клей победил. Вот почему, победи он сам на президентских выборах сорокового года, взятые у Нилсона деньги рассматривались бы ретроспективно как приятная необходимость, чем они в каком-то смысле и были. Даже сейчас он сожалел не столько о том, что продал свой голос, сколько о другом: он не выполнил своего долга перед индейцами.
Пот катился по его лицу, а похолодевшие руки и ноги дергались, как будто кто-то, а не он сам управлял ими. Нужно взять себя в руки. Он вспомнил, как недавно к нему пришел один из тех индейцев, земля которых была продана Нилсону. «Нам никогда еще так не фартило, как с продажей этой земли. Ни черта, никакой нефти в ней не нашли, и если бы мы ее не продали, то и остались бы на ней по сей день дураки дураками. А теперь у меня собственное дело и...» История успеха: хороший исход недобрых дел.
Но Бэрден не хотел легкого утешения. Всю свою жизнь он верил, что никто не должен вести себя неподобающе, невзирая на опыт других, и большую часть своей жизни он был честным. Даже когда он разражался пышными тирадами о всех глубинах и мелях чести, он шел на минимальные компромиссы с собственным пониманием добродетели. Тот факт, что другие не разделяли его скрупулезной деликатности, только радовал его. Но теперь все это позади, он разоблачен, и это тем более ужасно, что другие по крайней мере никогда не говорили, что лучше быть честным, чем бесчестным, благородным, чем подлым, хорошим, чем плохим; никакая софистика относительно того, что истиннохорошо, не могла спасти его от самого себя, не говоря уже о неминуемом всеобщем презрении после появления статьи Гарольда. Если говорить честно, наибольшую боль причиняла ему именно мысль о том, что скажут другие. Больно сознавать, что они будут смеяться над ним за то, что его поймали, радоваться краху его карьеры, а затем с легкостью забудут о самом его существовании, потому что кто он такой в конечном счете, как не еще один продажный политикан, дни которого миновали?
— Останови здесь.
Шофер слишком резко нажал на тормоз. Бэрден стукнулся больным плечом о дверцу машины. Еле слышно выругался. Затем, не давая возможности этому идиоту спросить, что делать дальше, сказал ему, что он должен его подождать.
— Я хочу пройтись. Можешь включить радио.
Деревья с облетевшими листьями спускались по крутому склону к Потомаку, коричневые воды бурлили среди рассекавших их острых скал, по которым, наверно, переправляются через реку гиганты.
Узкая дорожка вилась среди деревьев, и он побежал вниз, к реке, как мальчишка, думая только о том, чтобы скрыться от людей, от реальности.
За резким поворотом дорожки возникла разрушенная хижина с наполовину содранной крышей, взломанной дверью и окнами. Бэрден остановился и заглянул внутрь. Пол был покрыт пожелтевшими газетами и пеплом давнего костра. Он подумал, что душа его — такое же темное убежище, потрепанное и запущенное; впустил свет и увидел пустые пивные бутылки, использованные презервативы и почему-то один ботинок. Он пошел дальше вниз, радуясь прохладе леса, шуму воды среди порогов, который нарастал с каждым его шагом.
Тропинка вывела его на узкий каменистый пляж. Между высоких камней, сглаженных последним оледенением, стоял его отец в рваном мундире конфедератов, с ружьем в руках, как и в тот день на поле битвы при Шайлоу, когда сын не узнал его. Но теперь ошибки не могло быть. Пылающие глаза разгневанного юноши принадлежали человеку, который всю жизнь был его главным мучителем.
Бэрден заговорил первый.
— Ты был прав,— сказал он.— Все пошло прахом. Можешь радоваться.— Он попытался сделать шаг к капралу конфедератов, но тот отступил, и Бэрден заметил его рваный мундир и свежую рану.
— Она все еще кровоточит! — Этот торжествующий крик заставил юношу направить на Бэрдена ружье, не давая ему приблизиться. Но Бэрдена в его страстном порыве не могла остановить даже смерть. Вся жизнь его в это мгновение сосредоточилась на зияющей ране, и у него было только одно желание на свете — остановить кровотечение.
Застывшими пальцами он вытащил из кармана носовой платок. Затем он пошел к раненому солдату, пока тот не обратился в бегство. Ведь это не простой солдат, а его отец, сраженный в честном бою вражеской пулей. Капрал армии конфедератов не уклонился от встречи, и наконец они стояли лицом к лицу.
Бэрден долго смотрел в его голубые глаза, в которых с необыкновенной точностью отражалась пустота неба. Затем медленно протянул руку с носовым платком. Только ружье преграждало ему дорогу. Он терпеливо ждал, пока наконец, точно по волшебству, ружье не опустилось. С криком бросился он к юноше, который был его отцом, приложил платок к его ране, потерял равновесие, навалился на любимое существо, был принят в объятия давно умерших рук, и, как нетерпеливые любовники, они сплелись и вместе рухнули вниз .
I
Словно чужак, не уверенный в ожидающем его приеме, Питер вошел в переполненную гостиную и увидел, что люстру с эмблемой принца-регента сменило фантастическое сооружение из цветного венецианского стекла. В доме переменилось все, кроме людей: регентский хрусталь мог уступить место венецианскому стеклу, но Люси Шэттак была тут, и лишь некоторая задубелость ее лица говорила о том, что, возможно, со временем она тоже перестанет существовать.
— Питер, голубчик! — Она в соответствии с ритуалом