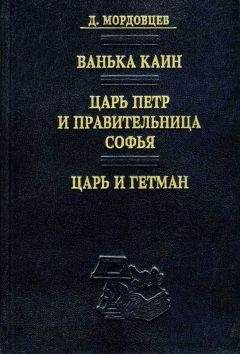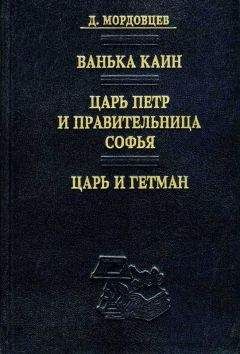И эти ночные окрики, и это пение у костров, иногда звонкий смех дивчины и грубоватый хохот парубка — казака — все это наводило Мотреньку еще на большее раздумье… Вспоминался ей и покойный отец, и Мазепа, «ищущий могилы себе», и этот Чуйкевич, каким-то разрыв — зельем вошедший в ее жизнь, и этот хорошенький, плачущий на траве в Диканьке «москалик» Павлуша Ягужинский… Где-то он теперь? Что с ним?.. А как это было давно! Какие они тогда еще дети были!..
Вон звездочка прокатилась по небу!.. Это чья-нибудь жизнь скатилась в вечность — свечечка погасла, и не будет уж этой звездочки на небе… А еще гетман говорил, что это такие же земли, как вот и эта земля, где купальский вечер справляют люди, а другие плачут… И там, верно, плачут…
Купала на Йвана,
Купався Иван…
Да так всю ночь из головы не выйдет это пение… А вон Орися как веселится… Счастливая!.. Она через огонь прыгает — как козочка перелетела…
А что это словно тени какие-то движутся от степи?.. Да, что-то метлешится во мраке — что-то высокое — высокое, как будто бы и не люди, а что-то большее, чем люди… На темной синеве вырезываются, но так неясно, две-три, даже четыре большие тени — и все ближе и ближе… Может быть, это казаки откуда-нибудь едут; только зачем же без дороги?.. Там нет дороги: дорога идет левее, мимо самых крепостных палисадов… Да это конные…
Если б не это пение «Купала на Йвана», не смех и не «жарты» у реки и если б Мотренька стояла немного к степи поближе, то она могла бы расслышать даже шепот на незнакомом ей языке, на том языке, который она, впрочем, слышала в польских костелах — на латинском…
— Довольно, ваше величество, — опасно дальше двигаться… Вы видите, что это не бивачные огни: это полтавская молодежь затеяла свои обычные игры накануне Иоанна Крестителя… Это праздник Купалы, — шепчет один кто-то.
— Так я хочу посмотреть на этого Купалу, — отвечает другой шепот.
— Но вы рискуете собой, ваше величество, — снова шепчет первый.
— Я, любезный гетман, и люблю риск, — отвечает второй.
— Но тут близко крепостной вал, часовые там могут заметить…
— Пустяки, гетман! Я знаю — часовые далеко.
Все ближе темные фигуры. Это всадники. Они скоро приблизятся к линии света от костров. Вот они выступают в эту область света, но так тихо-тихо… Видны уже лошадиные морды, кое-где искорками блестит сбруя, там свет упал на стремя… Еще ближе — свет костра падает на лица… Одно лицо, молодое, впереди, в какой-то странной шляпе… Еще лицо… усы белеются…
Боже!.. Мотренька узнала его!.. Это он — гетман…
Она невольно вскрикнула… Всадники шарахнулись от костров в степь, в темь… С вала раздались выстрелы… Вдали, во тьме, раздавался конский топот…
Все всполошилось у костров. Пение прекратилось. Послышались визги, оханья — все бросились бежать в город, оставляя купальские огни на произвол судьбы.
Когда испуганная Орися подбежала к своей панночке, панночка лежала без чувств… Она «зомлила»…
XIV
Таинственные всадники, подъезжавшие к купальским огням под Полтавой, были — Карл, Мазепа, юный принц Максимилиан и генерал Левенгаупт, недавно присоединившийся к королю со своим отрядом.
Карл, овладев в июне Опошнею и ожидая подкреплений из Польши, на которые, впрочем, сомнительно было рассчитывать, зарядился вдруг по обыкновению безумною мыслью — овладеть Полтавой. Мысль эта, надо сказать правду, не сама забралась в железную голову, а натолкнул на нее как бы нехотя и случайно лукавый бес — Мазепа. Этот «полуденный бес», как называла его хорошенькая молодая гетманша, Настя Скоропадчиха, прослышав, что его «ясочка коханая» Мотренька находится в Полтаве, безумно захотел хоть еще раз в жизни взглянуть на нее, услыхать ее голосок, ее соловьиное щебетание, — и живучи были надежды, упряма была его железная воля! — бок о бок с нею идти к своей цели, добиться короны герцогской, что уже между ним и Карлом порешено было, и вместе с Мотренькою потом взойти на ступени герцогского трона. Под давлением этой двойной страсти он и забросил в шальную голову Карла мысль — взять Полтаву, где должны были храниться огромные запасы провианта и боевых припасов, в которых шведы чувствовали ужасающий недостаток: шведские солдаты умирали с голоду в благодатной Украине, а порох их за зиму был подмочен и почти не стрелял… Полтава и должна была дать все это Карлу…
Зарядившись этой мыслью, король — варяг уже не слушал советов своих полководцев и министров.
— Что за безумная мысль пришла ему в голову брать Полтаву? — ворчал Гилленкрук, допрашивая Реншильда, когда Карл сказал, что сегодня, 23 июня, он хочет ехать ночью осматривать укрепления Полтавы.
— Король хочет, пока не придут поляки, немножко потешиться, s'amuser — «повозиться», как он юношей любил «возиться» с фрейлинами, а потом — с волками и медведями на охоте, теперь — с московитами, — с улыбкой отвечал старый фельдмаршал, хорошо изучивший своего коронованного ученика.
— Сегодня ночью цветет папоротник — я хочу найти этот цвет, — со своей стороны говорил Реншильду этот коронованный ученик его.
Осторожный Гилленкрук и голову повесил. Даже храбрый Левенгаупт задумался: «У него все шутки… Он так же играет Швецией и своей короной и своею жизнью, как маленьким играл в Александра Македонского…»
Вот за этим-то цветом папоротника он и явился под Полтаву, к самым купальским кострам, приняв их за огни бивуаков. И он нашел волшебный цвет: одна пуля, пущенная с крепостного вала вдогонку неизвестным всадникам, угодил Карлу прямо в пятку левой ноги, прошла сквозь всю лапу и застряла между пальцами. Упрямый варяг даже не вскрикнул, не промолвил слова, даже заметить никому не дал, что он ранен. Напротив, этот безумец был счастлив, радовался этой ране! Да и как не радоваться! На языке древних варягов — викингов рана называлась «милость», отличие — faveur, и ее не следует перевязывать раньше, как через сутки… Ведь сага Фритьофа в песне XV говорит:
Рана — прибыль твоя: на груди, на челе-то прямая украса мужам;
Ты чрез сутки, не прежде ее повяжи, если хочешь собратом быть нам…
— Господи! Помоги нам! — в ужасе воскликнул Левенгаупт, увидав по возвращении в лагерь, что из сапога короля льется кровь. — Случилось именно то, чего я всегда боялся и что я предчувствовал!
— Жаль, что рана только в ноге! — отвечал безумец с сожалением. — Но пуля еще в ней, и я велю вырезать ее на славу.
Хмурый гетман только головою покачал: ему было не до Карла, не до его раны — он сам сегодня разбередил свою старую, страшную рану, которая сведет его в могилу… Он ее видел…
Но упрямый король, счастливый и гордый своею раною, истекая кровью, все-таки не прямо отправился в свою главную квартиру, а поскакал по лагерю — посмотреть, что там делается.
Рана между тем делала свое дело. Нога воспалилась, страшно распухла, и нужно было разрезать сапог. Оказалось, что кости в лапе были раздроблены; нужно было вынимать осколки костей и делать глубокие разрезы в ступне. А он — как ни в чем не бывало: весел!
— Режьте, режьте, живее, ничего! — ободрял он хирурга, любуясь операцией.
— От чадушко!.. Бисова ж дитина! — невольно проворчал по-своему, по-украински, Мазепа, дивуясь на эту «бисову дитину».
— Что говорит гетман? — спрашивает «чадушко».
— Благоговеет пред вашим величеством! — был латинский ответ, заменивший «бисову дитину».
В это время в палатку, где происходила операция, заглянул Орлик, знаками приглашая Мазепу выйти. Гетман вышел. У палатки стоял знакомый нам коробейник.
— Ну что, был? — нетерпеливо спросил Мазепа.
— Были — с, ваша милость, — тряхнул волосами коробейник.
— И ее видел?
— Как же — с, видали-ста… Приказали кланяться и на подарочке благодарить.
— И она здорова?
— Ничего — с, слава Богу, во здравии… только об вашей милости больно убиваются.
У Мазепы ус задрожал и пальцы хрустнули — так он стиснул одну руку другою.
— А что москали? — спросил он после минутного молчания.
— Царя ждут в город… Онамедни, сказывают, боньбу из-за Ворсклы бросил в город, а она, боньба, пустая, а в боньбе грамоту нашли: что потерпите-де, мол, маленько — на выручку иду.
Мазепа задумался на минуту.
— Ладно, ступай в мою ставку, — сказал он и вошел в палатку короля.
Карл, которому в это время перевязывали ногу после операции, с мертвенно-бледным лицом, видимо, искаженным страданиями, которых он, однако, не хотел из упрямства обнаруживать, с блестящими лихорадочным огнем глазами рассматривал только что вынутую из ноги пулю.
— Какая славная пуля! — говорил он, словно в бреду. — А помялась немножко… Посмотри, Реншильд, какой дорогой алмаз…
Реншильд нагнулся и ничего не сказал. Он только вздохнул.