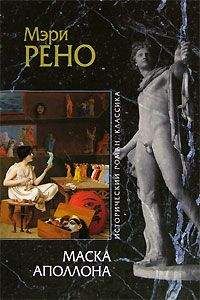Начинало светать. В ивняке запели птицы; те самые, что будили меня, когда в доме было тепло… В сером свете стало видно лицо Спевсиппа; скривилось, как у обезьяны, надкусившей незрелый инжир.
— Как видно, придется сказать тебе всё. Дион еще в прошлом году хотел, чтобы Платон принял приглашение Архонта. Платон отказался, — и отношения у них очень испортились. Теперь, когда пришел последний вызов, Дион зашел обговорить его, вышел в ярости, и с тех пор больше не появлялся. Платон писал ему, — я точно знаю, — он не ответил.
Облако над нами поймало лучи спрятанного солнца и загорелось розовым… На Верхнем Городе засверкали позолоченные орнаменты храмовых крыш… А перед домом стоял парнишка с факелом, дожидаясь разрешения погасить. Что-то зашевелилось у меня в памяти; и по позвоночнику прошла дрожь, словно холодным пальцем провели. Я заговорил было, но тут же смолк.
— Что? — спросил Спевсипп, отвлекаясь от своих мыслей.
— Нет, ничего, — ответил я. — Я забыл, что тебя не было в театре.
В начале лета Феттал вернулся с гастролей. Я ждал этого больше с болью, чем с надеждой. Ведь у молодых дни длинные, прошлое вытесняется быстро… Но он — словно зимородок вернулся — тотчас прилетел к своему суку у воды.
Он высыпал передо мной всю добычу своего похода: театры и города, триумфы и проблемы, — и кучу синяков и шишек (вести себя он умел, но слишком авантюрного склада парень). Полночи рассказывал, какие пьесы они играли, как Мирон их ставил, и как он сам поставил бы их лучше… Он был как раз в том возрасте, когда человек должен выплескивать свои мысли, иначе взорвется; а со мной можно было говорить всё. Когда он в полночь выскочил из кровати, чтобы показать мне, как он вышел бы на сцену, если бы Мирон ему позволил, — я увидел через открытую дверь, что маска веселится, глядя на нас с доброй улыбкой.
Мы повсюду ходили вместе; на радость тем, кто желал нам добра, и к великому огорчению злопыхателей, которые кормятся чужими бедами и много успели наболтать после его отъезда.
Однажды, когда мы сидели с друзьями в лавке благовоний, я выскользнул к Сизифу-ювелиру заказать кольцо для него в подарок к нашей годовщине; сардоникс с гравировкой, Эрос на дельфине. Пока Сизиф делал эскизы, я болтался возле его мастерской; и тут услышал, как один купец спросил, верно ли, что в гавани появился корабль из Сиракуз. Кто-то ответил, да, но корабль не торговый. Архонт прислал государственную триеру за Платоном-философом.
До сих пор я был слишком захвачен собственным счастьем. Но эта новость так меня потрясла, что я бросил все свои утренние дела, забрал Феттала из лавки и сказал ему, что должен идти в Академию. Хотя он ничего не знал о Платоне, кроме того что я ему рассказывал, но тоже разволновался.
— Да, конечно иди, — говорит. — Я с тобой прогуляюсь. Что ж они так обращаются с бедным стариком! Он, наверно, никого и слушать не станет кроме Диона (как ты знаешь, я его не очень люблю) и прочих своих друзей-философов. Но, быть может, хоть заметит твой приход. Мы перед ним в долгу за отличный вечер…
Это он вспомнил ужин на двоих у нас дома, когда мы вместе «Пир» читали. Я сказал, что у Платона сейчас и без меня хлопот хватает, так что его тревожить я не собираюсь, а только хочу новости узнать.
— А знаешь, Нико, я хотел бы когда-нибудь поговорить с ним о театре. Сомневаюсь я, что все его понятия на самом деле так глупы, как ты думаешь. Теперь пьесы на богов больше не сворачивают. Половина нынешних авторов вообще в них не верит; а остальные думают, как и мы с тобой, что уж если они и есть где-нибудь, — или повсюду, — то уж никак не сидят в золотых креслах на горе Олимп; в таких же постоянных распрях, как какой-нибудь царский выводок в Македонии, и так же готовые изрубить каждого порядочного человека, забывшего польстить им или взятку-жертву принести.
Хотя мне самому было едва за тридцать, от разговоров молодежи у меня часто волосы дыбом вставали. В его возрасте, мы такими мыслями делились шепотом; а в дни отца моего они могли и под цикуту подвести. Однако, Платон говорил что-то похожее, а ему уже семьдесят…
Среди олив Академии мы встретили Аксиотею, поздоровались, но задерживаться не стали, потому что она была не одна. Она теперь редко бывала одна, с тех пор как Платон принял еще одну девушку. Ластения из Мантинеи носила женское платье, вероятно чувствуя, что оно больше подходит ее душе; была она маленькая и стройная, очень живая, но при этом серьезная. Они шли плечо к плечу, очерчивая руками какую-то дискуссию. Аксиотее здорово повезло, что попала сюда. Есть женщины, которым мужчины нужны и для разума и для тела; такие становятся гетерами; но ей это совершенно не подходило. Она бы изголодалась и озлобилась, если бы Платон не был выше условностей. Я был рад за нее и желал ей счастья.
Когда мы добрались до места, Феттал, очень деликатный в серьезных вещах, сказал, что недостаточно знает Спевсиппа, чтобы вламываться к нему сейчас; и пошел бродить по садам.
В доме Спевсиппа плакала девушка. Била себя в грудь, рыдала, и повторяла наверно в сотый раз, судя по голосу: «Так я ж тебя может быть никогда больше не увижу!» Стучать в разгар такой сцены я не решился и пошел в рощу. То, ради чего пришел, я уже услышал; но мне хотелось узнать больше, и я уговорил себя, что могу пригодиться зачем-нибудь, если зайду попозже.
Вскоре я заметил двоих на тропе меж деревьев передо мной. Оказалось, что это Платон с Дионом. Я остановился, собравшись повернуть назад, но в этот момент Платон увидел кого-то за деревьями и пошел туда, оставив Диона ждать.
Дион сел на скамью в тени. Я легко мог бы уйти незамеченным. Но не задержался даже для того, чтобы самому себе удивиться, — и пошел прямо к нему.
Чтобы он мне обрадовался, это было совершенно невозможно; но поздоровался он со мной теплее, чем я ожидал; быть может увидел во мне хороший знак, предвестие Сицилии. Раньше я не отважился бы ни на что больше, прошел бы мимо; но тут сел рядом с ним.
Уже не помню, о чем я заговорил; во всяком случае, не о деле. Видно было, что Платон освободится еще не сразу; и Дион держался с обычной учтивостью. Я чувствовал, как он надеется, что у меня хватит воспитания уйти, когда Платон вернется; а пока он просто должен был мириться с моим присутствием. Наверно, благоговение перед ним начало вытекать из меня еще в Сиракузах, вместе с тем вином из его разбитой чаши. А с тех пор я и в профессии своей вырос, и — что еще важнее — в любви.
Благоговение ушло, но я подошел к нему восстановить кое-что. Благородная красота его лица была словно прекрасная маска, с которой я привык жить с давних пор. Теперь я изучал ее снова. У стольких мужчин его возраста (ему ведь под пятьдесят, наверно) лица жиреют, или обвисают, или искажаются от мелочных забот, или ожесточаются… А его лицо сохранило форму; если кожа и постарела, то была здоровая зрелость. Царское лицо; из тех классических масок, что делают из хорошего твердого дерева, которое режется почти как камень.
Не знаю сейчас, как мы подошли в разговоре к Дельфам, но я вспомнил «Мирмидонцев», и как редко их ставят в Афинах. Кто из нас первым помянул Гомера, точно не помню, — да это и не важно, — но именно я сказал, что местами Эсхил от Гомера отходил. «Возьми, — говорю, — хотя бы Патрокла. В „Илиаде“ отец напоминает ему, что он старше Ахилла; Эсхил делает его возлюбленным юношей… Но в любом случае, — продолжал я, следуя как-бы-своей мысли, — он был еще с самом расцвете сил, когда Ахилл послал его в бой.»
Эти слова уже вылетели, когда я сообразил, что говорю. Не спрашивайте, как такая глупость сохраняется в человеке, способном из дому выходить и на хлеб себе зарабатывать; могу лишь предположить, что душа моя завладела языком, раньше чем я это понял. Даже если бы я сам это придумал — уже достаточно скверно. Но память актера похожа на галочье гнездо: мысль была из Платонова «Пира».
Я понял, что сморозил, даже раньше чем лицо Диона помрачнело и стало холоднее зимних гор; понял — и перестал играть простачка. Просить у него прощения было теперь в десять раз хуже; да мне и не хотелось. Не помню, в каких выражениях он изложил, что занят. Ему хотелось, чтобы я исчез оттуда, не меньше чем мне.
Уходить со сцены надо уметь и в расстроенных чувствах. Но я был так занят своей спиной, что буквально воткнулся в Феттала. Тот заставил меня сесть и рассказать ему в чём дело. А выслушав, рассмеялся:
— Ерунда это всё. Ты мог сказать ему гораздо больше. Вот доживешь до семидесяти — посмотришь, стану ли я обращаться с тобой, как он с Платоном.
От смеха мне полегчало; но всё равно собраться к Спевсиппу я смог только на следующий день.
Я нашел его в саду; с рабом-персом, смотревшим за садом, и с тем парнишкой Аристотелем, которому он когда-то образцы свои посылал. В саду было множество беседок для слабых растений, каменных террас, ветрозащитных стенок, сараев с горшками… Увидев, что он занят, я хотел было ретироваться; но он сказал, что от мандража там прячется, крутится чтобы время убить, и рад будет перерыву.