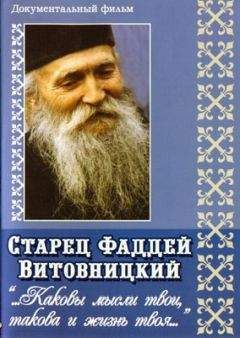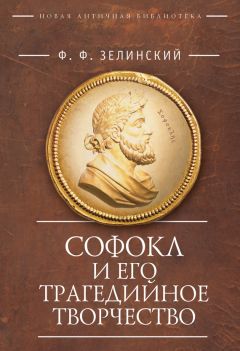Опять зима покрыла своим холодным туманом скромный двор псофид-ского царя; опять его семья грелась у пылающего очага, но ей уже не весело: горе молодой вдовы на всех навеяло душевный туман, еще холодней того, который окутал их двор.
— С этим пора покончить, — угрюмо говорил Проной. — Уверяю тебя, сестра, Алкмеон пропал без вести. Я был в Дельфах, был в Додоне; до нее ведут его следы, затем они теряются. Там же, недалеко, река Ахеронт и вход в подземное царство; думаю, что Эринии туда же его и загнали.
Но Алфесибея покачала головой.
— Нет, мой брат, сердце мне говорит иное. Ждала я долго, но буду ждать еще. И я верю, будет такой же вечер, как и тогда: мы будем сидеть у огня, и через порывы зимнего ветра послышится знакомый стук…
Через порывы зимнего ветра послышался знакомый стук.
С криком радости Алфесибея вскочила, побежала ко входной двери, распахнула ее — и, схватив гостя за руку, ввела его в хорому.
— Вот он! Вот он! О, я знала, он — верный, не забыл своей Алфесибеи… Но зачем ты такой бледный, такой грустный? Видно, не дают тебе покоя эти злоименные?
Еще не дают, Алфесибея, но скоро я надеюсь освободиться от них. Здравствуйте, отец и матушка, здравствуйте, шурья и невестки. Приютите моего мальчика; он ходил за мною во время моего странствия; мне его дали… добрые люди. Нас обоих приютите на одну ночь; завтра мне предстоит новый путь… последний.
Алфесибея всплеснула руками: опять в путь? И уже завтра? Отдохнул бы с нами!
Нельзя, Алфесибея. Да и что пользы? Разве они дадут мне отдохнуть? Да, и еще должен я тебя огорчить. Я был у Аполлона в Дельфах; он обещал мне освобождение от моих мучительниц, но под условием, что я посвящу в его храм то ожерелье, за которое моя мать продала свою душу Полинику. Ты мне его дашь?
Конечно, дам; разве для меня может быть украшение дороже твоей жизни? Но зачем ты так холоден со мной?
— Не обижайся, дорогая, лучше сама держись подальше от меня: дыхание Эриний на мне. Я лягу здесь, у очага — помнишь, как тогда.
Он провел ночь у очага, а Актора взяла к себе челядь. Дали ему и наесться и напиться; ел он охотно, а от питья даже разговорчив стал. Челядь хохотала до упаду над его глупыми рассказами; но под конец он наговорил таких вещей, что решили призвать царевичей. Проной и Агенор пришли — затем взяли Актора к себе — затем вернулись к челяди, но уже без него. «Вам грешно было смеяться над этим несчастным, — сказал Проной, — Эринии коснулись и его и повредили его ум. Забудьте лучше его безумные речи».
Но спать они не пошли; и когда на заре следующего дня Алкмеон хотел проститься с ними, их не было дома. Он подал руку остальным и ушел, унося ожерелье Гармонии в полости своего пояса.
Солнце не показывалось в этот день. На дворе моросило; все удивлялись, куда и зачем царевичи ушли. Около полудня две тени стали вырисовываться из окружающего тумана; вскоре затем Проной и Агенор вошли в большую хорому. У первого в руках было ожерелье.
— Ты отомщена, сестра, — сказал он, бросая его на стол.
— Проной! Агенор! Что это значит? Где мой муж?
— Твоего мужа, бедняжка, давно уже нет; Алкмеон же, муж речной нимфы Каллирои, понес кару за свою измену у переправы через Метавр.
Опустились руки у Алфесибеи, мертвенная бледность покрыла ее лицо. Не говоря ни слова, она отвернулась от братьев и вышла через открытую дверь. Некоторое время еще виднелась ее тень, но затем и она слилась со все более и более сгущающимся туманом.
А когда наступил вечер и огонь запылал на очаге Фегея, последний алмаз рокового ожерелья окрасился в тот же багровый цвет.
— Привет владыке Аполлону от всего дома псофидского! Он просит его принять в свою сокровищницу этот дар, слишком ценный для скромной человеческой доли!
Пророчица Манто приняла из рук жертвователя его драгоценность — и грустно улыбнулась, узнав в ней роковой убор фиванских цариц.
— Нерадостное наследие оставила божественная родоначальница своим преемницам! — сказала она, опустив свои взоры на багровые алмазы. — Семела… Агава… Дирцея… Ниобея… Иокаста… Эрифила… Алфесибея… семь ясных камней должно было побагроветь, семь цветущих жизней погибнуть во мраке и муках, чтобы люди поняли наконец силу проклятья, воплощенного в золоте змея. И на вас, друзья, лежит скверна родственной крови; и вам надлежит очиститься, чтобы вновь получить доступ к очагам людей и жертвенникам богов. Но когда вы вновь станете чистыми — старайтесь, чтобы эта наука не пропала даром. Мать-Земля вас и кормит, и одевает, и хранит — не отнимайте же у нее того, что она любовно скрыла в своих недоступных глубинах, это марево радости, таящее грех, и муки, и смерть в своем обманчивом блеске.
Имена Афин и их витязей уже не раз мелькали в предыдущих рассказах: мы встречали Эгея в Коринфе перед домом покинутой Медеи, мы еще чаще встречали Фесея в обществе Геракла. Теперь мне предстоит познакомить вас ближе с городом Паллады — и прежде всего рассказать вам, как он стал таковым.
Своим древнейшим царем Афины считали Кекропа (Первого), впервые занявшего возвышающийся над городом холм, называемый Акрополем (или кремлем). Это было в то время, когда эллинские боги распределяли между собою эллинские города, кому где быть покровителем: Гера избрала Микены и Аргос, Афродита — Фивы, Деметра — Элевсин и так далее.
Из-за Афин заспорили двое, Посидон и Паллада; по предложению Зевса они решили предоставить царю Кекропу и его гражданам самим избрать того из них, кого они желают им покровителем. Кекроп созвал своих старейшин на Акрополь; пришли и Посидон и Паллада. Посидон, желая показать людям свою силу, ударил своим трезубцем в голую скалу — из скалы брызнули три струи морской воды. Паллада коснулась почвы своим копьем, и почва произвела лозу маслины, лоза стала расти и расти и покрылась сотнями сочных янтарных плодов. Кекроп и его старейшины решили, что божественность не столько в силе, сколько в благости, и присудили победу Палладе. Следы трезубца Посидона так и остались на скале; вы и теперь можете их там видеть, хотя брызнувшие из них струи уже давно иссякли. Созданная Палладой маслина тоже была очень живуча; после многих веков она согнулась от старости, почему ее и называли «всесогбенной маслиной»; от ее ростков произошли другие маслины, росшие там и сям в долине афинской реки Кефиса, так называемые мории; из них многие живут и поныне.
Сына-наследника у Кекропа не было; его дом с ним делили его три дочери, в которых афиняне видели позднее божественных распределительниц своей небесной росы, очень благодетельной в их малодождной стране — три девы-«росяницы», Аглавра, Герса и Пандроса. Однажды к ним пришла Паллада и вручила им обвязанный ковчег, строго запрещая им его открывать. По ее уходе любопытство одолело обеих старших: посмотреть бы, что тут за тайна хранится! Пандроса не одобряла их непослушания, но, не будучи в силах им противодействовать, ушла. И они вскрыли ковчег и, к своему ужасу, увидели в нем живого младенца, обвитого двумя змеями. Змеи бросились на ослушниц; они в безумном страхе бежали, сорвались с отвесной скалы и погибли. Паллада тотчас почуяла, что случилось недоброе. «Безрассудные! — сказала она Пандросе. — Я хотела сделать бессмертным этого младенца, вашего будущего царя. Твои сестры разрушили мои чары: бессмертным он не будет, но моя милость все-таки будет на нем и через него на вас». Младенец был назван Эрихтонием (или Эрехфеем Первым); его потомки — Эрехфиды.
Эрихтоний принял власть от Кекропа и после долгой жизни оставил ее своему сыну Пандиону (Первому). При нем еще ярче засияла милость богов над страной Паллады: и Деметра, и Дионис принесли ей свои дары. Но его семейная жизнь была отравлена несчастной судьбой его дочерей, Прокны и Филомелы… Первую он выдал за своего союзника Терея, царя дикой Фракии — северного побережья Архипелага. Но варвар, имея уже от Прокны младенца-сына Ития, воспылал нечестивой страстью к ее прекрасной сестре. Последствием его необузданности была кровавая драма, Которой я здесь пересказывать не буку; Прокна в безумии убила собственное дитя, а боги, желая предотвратить дальнейшие ужасы, обратили их всех h птиц — Прокну в соловья, Филомелу в ласточку, а Терея в удода. И поныне Прокна-соловей в летние ночи забивается песнями, зовет своего сына — Ития, Ития; для эллинов и она, и Ниобея стали настоящими символами материнского горя…
Власть Пандиона унаследовал Эрехфей (Второй). И его дом был богаче дочерьми, чем сыновьями: при трех красавицах, Прокриде, Орифии и Креусе, рос один сын, Кекроп (Второй).
Прокрида была выдана за молодого местного вельможу, Кефала, очень прекрасного собой; но именно эта его красота стала причиной их гибели. [Его полюбила Заря и хотела увлечь в [свой терем; когда же он ссылался на [клятву в верности, которой он и Прокрида связали друг друга, богиня объявила ему, что та ее нарушит первая. После этого она изменила его наружность и отпустила его домой. И действительно ему удалось в измененном виде приобрести любовь не узнавшей его жены; убедившись таким образом в ее неверности, он ее бросил. Но [Прокрида искренне раскаялась в своим увлечении; желая его искупить, она отправилась на Крит и рабской службой выслужила у его царя его чудесный дрот-прямолет, бивший без промаха. Им она вернула себе любовь Кефала, который был страстным охотником. Однажды он на целую ночь пошел в нагорную рощу, чтобы выждать появления оленя. Прокрида, боявшаяся, как бы его опять не стала заманивать Заря, тайно пошла за ним. Всю ночь она прождала, притаившись в кустах; но когда небо заалело в предрассветном сиянии — ей показалось, что это ее божественная разлучница спускается к ее мужу. Она шевельнулась и кустах; Кефал, думая, что это олень, метнул свой чудесный дрот — и Прокрида пала мертвая на траву.