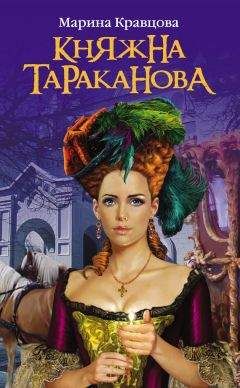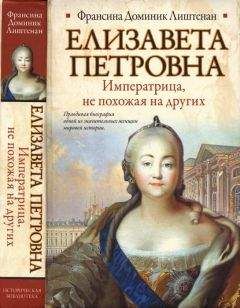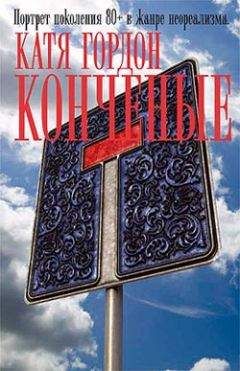– Да верить ли?
Григорий, рассмеявшись, поднес было ее тонкие пальцы к губам, как вдруг Катина рука выскользнула из его ладони, и юная княгиня, страшно побледневшая, упала в траву без сознания.
Как карточный домик в одно мгновенье разрушилось хрупкое призрачное счастье. Жизнь вновь показывала Орлову свое суровое, жестокое лицо.
Князь дико вскрикнул, схватил Катю на руки, бросился к дому. Промчался, перескакивая через три ступени, по высокой мраморной лестнице, пролетел по залам, наконец ворвался в спальню, уложил все еще бесчувственную жену на кровать, а сам рухнул возле нее на колени. Он смотрел на Катю расширенными от ужаса глазами и не двигался. Казалось, сейчас он тоже свалится без чувств…
К счастью, Катя уже приходила в себя. Дрогнули губы Григория, он, не выдержав, разрыдался.
– Вот видишь, – бормотал он, покрывая поцелуями ее руки, – ты пришла в себя! Все ничего… Ты обязательно выздоровеешь!
Катенька, уже не притворяясь, строго смотрела на мужа, и в ее больших глазах он мог бы прочитать сейчас все тот же мучительный вопрос: «Что станется с тобой, когда я умру?»
С этого дня здоровье ее резко ухудшилось, Катя большую часть времени проводила в постели. И очень скоро почувствовала, что конец близок. Как ни старалась она мужаться, но эта открывшаяся ей близость смерти – чего-то неведомого, самого важного, что может быть в жизни, и самого страшного – поразила ее и ужаснула. Только постоянное присутствие рядом Григория не позволяло Кате запаниковать открыто. А он не отходил от нее! Она не видела, как он ел, пил, когда спал…
– Гришенька, – умоляла Катя, – ну, ради меня, не мучай себя, пойди, любимый, отдохни! Сам ведь разболеешься!
Он упрямо качал головой.
Однажды сон незаметно для Григория сморил его, князь задремал в кресле возле Катиной постели. Вдруг он страшно вздрогнул во сне и пробудился. Катя лежала тихо и неподвижно, казалось, спала. Ее прозрачная рука покоилась на колене у Григория. Он машинально сжал эту руку, и глаза его наполнились ужасом. Он схватил жену в объятья, прижимал к груди, тормошил ее, целовал…
Его сознание сопротивлялось страшной правде. Но это не отменяло правды: Катя была мертва. Григорий, не отрываясь, глядел, глядел в ее неестественно белое, милое, обожаемое им до безумия лицо. Вдруг резко вскочил – он понял! Вскочил и тут же со стоном рухнул на ковер – без сознания.
Вбежавшие перепуганные слуги долго не могли привести его в чувство. Но когда Григорий очнулся, люди ужаснулись еще сильнее. Случилось то, что предчувствовала Катенька: князь, не выдержав последнего, самого страшного жизненного удара, лишился рассудка…
* * *
В Петербург прибыл гроб с телом юной княгини. Орлов в столицу не приехал, его привезли – он ничего не сознавал. Написали в Москву Алексею Григорьевичу. Тот, пробежав послание глазами, переменился в лице.
– Господи, Гришка! – он тяжело разрыдался…
Вскоре Алексей Григорьевич приехал в столицу, чтобы забрать к себе больного брата. Перевез Григория в Москву, поместил в своем подмосковном Нескучном и принялся заботливо ухаживать за ним.
Тяжело было Алехану, сердце его чувствовало веще, что внезапное сумасшествие Григория – не к выздоровлению. Это было первым большим горем графа Алексея, которое усугублялось еще непонятной обидой, неизвестно на кого: Алексею Григорьевичу горько было, что его богатырь-братец, которым все так восхищались, оказался на деле столь хрупким и ломким.
Впервые Алексей Григорьевич почувствовал себя осиротевшим. Опротивела ему в конце концов одинокая жизнь, и вскоре граф Орлов посватался к приглянувшейся ему молоденькой, скромной и тихой девице из рода Лопухиных, которой сам тоже очень нравился, несмотря на то, что ему было уже под пятьдесят.
Свадьбу справили громкую, веселую. Сергей Ошеров, вызванный графом Алеханом из Петербурга, присутствовал на венчании.
Глава пятнадцатая Великолепный князь Тавриды
Переливы негромкой, грустной музыки рождались под пальцами, уверенно и нежно касающимися клавиш. Государыня прислушивалась, склонив чуть набок голову, как пел клавесин. Григорий Александрович, сыграв что-то на память, начал импровизировать, и весь отдался чарующе сладкому музыкальному плену. Когда мелодия смолкла, Екатерина тихонечко подошла сзади к задумавшемуся Потемкину и, обняв его крепкие плечи, нежно дотронулась губами до великолепных кудрей. Григорий обернулся.
– Сочинял я, матушка, – первую юность свою вспомнил.
– Жаль, не могу оценить талант твой, – сказала Екатерина. – Такой уж уродилась, что для меня любая музыка – шум.
– Меня хвалили, бывало. Думаю, обернись иначе судьба, стал бы пиитом или музыкантом знаменитым.
– Ты стал… Потемкиным! Не грусти, Гришенька, милый супруг мой, нет времени для грусти. Ждут нас дела – трудные и великие. Не кончилось еще наше время!
* * *
Екатеринслав, Херсон… Иной мужчина с меньшим благоговеньем и нежностью произносит имя любимой женщины, чем произносил светлейший князь Потемкин имена городов, существованием своим обязанных его рачению.
Богатые причерноморские земли осваивали крестьяне, выкупленные у хозяев на государственные деньги, эмигранты, приехавшие искать в России лучшей доли, греки-патриоты, во время русско-турецкой войны сражавшиеся с осмалинами за свободу своей Отчизны, и ныне получившие политическое убежище в России… Ссылаемые в Сибирь крестьяне останавливались на полпути и указом сверху отправлялись на юг, где начинали новую жизнь уже вольными людьми. На землях, управляемых Потемкиным не было рабства! Крепостные бежали от лютости помещиков-самодуров в Новую Россию, где их принимали с распростертыми объятьями. Тяжело и там было, много приходилось трудиться, но там – все по-другому. Новая Россия – она и есть новая.
На стол Потемкина ложились слезные жалобы – верните мужичков! Его светлость хохотал.
– Ишь, чего захотели! У меня людей не хватает, а я их назад – в ярмо да под плети. Многого возжелали, голубчики!
– Самой государыне жалобы идут, – говорил секретарь.
– А я напишу государыне, что князь Потемкин де первый в России беглых холопов укрыватель, в чем и подпишусь!
Он смеялся, но смех давал лишь минутное расслабление, ибо напряжение всех его сил было немыслимым и почти постоянным. Новороссия, соседствующая с Крымом, казалась Потемкину всегда подверженной опасности. Он укреплял рубежи, держал наготове войска. Турция не исполняла условий Кучук-Кайнарджийского мира. Ее вторжение в Крым, а оттуда – уже в Российские земли, могло произойти в любую минуту. Потемкин метался меж Петербургом и югом, в сумасшедшем вихре мирового значения дел забывая о себе самом. Он уже почти бредил будущей прекрасной Тавридой. Время для осуществления замысла было удобное – в самом Крыму находилось много сторонников России. Трезво, обстоятельно Потемкин излагал государыне причины необходимости решительных действий. Императрица, всегда осторожная в государственных делах, заколебалась.
Потемкин писал ей, умоляя: «Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по Бугу или со стороны Кубанской – во всех сих случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен: для того, что он не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу – вот положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий шаг их тут виден. Со стороны кубанской сверх частых крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна, мореплавание по Черному морю свободное, а то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдельных пунктах. Всемилостивейшая государыня! Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России!»
Екатерина вскоре сдалась на его доводы и мольбы. Понимала, что светлейший прав. Что ж, быть посему. Быть «Кырыму» Тавридой!
* * *
Светлейший, запершись в кабинете, перебирал бумаги. На лице отражалось глубокое раздумье. Он вытащил пальцы из волн стянутых в косицу густых кудрей и едва не принялся грызть ногти, но, опомнившись, потянулся к широкой вазе с горкой не яблок или винограда, а маленьких репок. Под веселый хруст репки Потемкину думалось легче. Он рядком разложил на столе листы с черновыми набросками, и, словно играя, принялся перекладывать их наподобие пасьянса. Прошло еще несколько времени. Князь схватил чистый лист бумаги, стал быстро и четко строчить беловик. Закончив, тут же сжег черновые рукописи на свечке. Составленные бумаги, после окончательного обсуждения с Екатериной, должны быть отправлены в Стамбул.