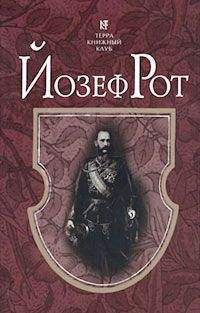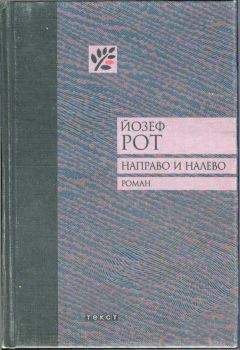Шесть тысяч крон был он должен Каптураку и Бродницеру. Эта сумма, даже при его смутном представлении о цифрах, казалась гигантской, когда он сравнивал ее со своим месячным жалованьем. (А треть его еще удерживалась каждый месяц.) Постепенно он все же свыкся с цифрой шесть тысяч, как с могущественным, но очень давним врагом. Да, в хорошие минуты ему даже казалось, что цифра уменьшается и теряет силу. Но в плохие минуты она возрастала до грозных размеров.
Он ездил к фрау Тауссиг. В течение многих недель предпринимал он эти короткие тайные поездки к фрау фон Тауссиг, эти грешные паломничества. Подобно простодушным верующим, для которых богомолье является чем-то вроде наслаждения, развлечением, а иногда даже сенсацией, лейтенант Тротта отождествлял цель, к которой он направлялся, с тем, чем она была окружена, с вечной своей тоской по свободной жизни, с штатским платьем, которое он надевал, со сладостью запретного плода. Он любил свои поездки. Он любил эти десять минут в закрытой карете, отвозившей его на вокзал, когда он внушал себе, что никто его не узнает. Он любил эти взятые взаймы стокроновые ассигнации в боковом кармане, которые сегодня и завтра принадлежат ему одному и по которым незаметно, что они взяты в долг и уже начали расти и пухнуть в книгах Каптурака. Он любил свое штатское инкогнито, На венском Северном вокзале никто не узнавал его. Офицеры и солдаты проходили мимо. Он ни с кем не здоровался, и никто не здоровался с ним. Иногда его рука сама собой подымалась, чтобы отдать честь. Но он тут же вспоминал о своем штатском платье и опускал ее. Жилетка, например, доставляла лейтенанту детскую радость. Он засовывал руки во все ее карманы, назначения которых не понимал. Суетными пальцами ласкал он узел галстука над вырезом жилетки — единственный, который у него имелся, подарок фрау Тауссиг, который он, несмотря на бесчисленные усилия, все еще не умел завязывать. Самый неискушенный сыщик немедленно признал бы в нем переодетого офицера.
Фрау Тауссиг стояла на перроне Северного вокзала. Двадцать лет назад, хотя она думала, что всего пятнадцать, ибо так долго скрывала свой возраст, что прониклась уверенностью, будто годы приостановили свой бег, двадцать лет назад она также встречала лейтенанта на Северном вокзале, правда, тот был кавалеристом. Она входила на перрон, как в омолаживающий источник. Погружалась в едкий запах каменного угля, в свистки и дым маневрирующих паровозов, в частый звон сигналов. На ней была короткая дорожная вуалетка. Ей казалось, что пятнадцать лет назад это было модно. Между тем с тех пор прошло уже двадцать пять лет — даже не двадцать! Она любила стоять на платформе. Она любила мгновение, когда подкатывал поезд и в одном из окон она замечала смешную темно-зеленую шапочку Тротта и его любимое, беспомощно-юное лицо. Ибо она и Карла Йозефа делала моложе, так же как себя самое, глупее и беспомощнее. В момент, когда лейтенант сходил с нижней ступеньки, ее объятия раскрывались, как двадцать, то есть пятнадцать лет назад. И из ее нынешнего лица возникало то прежнее, розовое, без морщинок лицо, которое было у нее двадцать, то есть пятнадцать лет назад, лицо девушки, милое и слегка разгоряченное. Вокруг шеи, на которой теперь уже пролегли две глубокие параллельные бороздки, она обвила ту детскую, тоненькую золотую цепочку, которая пятнадцать, то есть двадцать лет назад была ее единственным украшением. И как тогда, она отправилась с лейтенантом в один из маленьких отелей, где процветала тайная любовь в оплаченном, убогом, продавленном и чудесном постельном раю. Начались прогулки. Любовные минуты среди молодой зелени венского леса, маленькие и внезапные грозы в крови… Вечера в красноватом сумраке оперных лож, за спущенными занавесами. Ласки, хорошо знакомые и все же неожиданные, ласки, которых ждала искушенная и все же неувядающая плоть. Слух узнавал часто слышанную музыку, но глазам были знакомы только отдельные моменты сцен. Ибо фрау Тауссиг всегда сидела в опере за спущенными занавесами или же с закрытыми глазами. Ласки были рождены музыкой и как бы передоверены оркестром рукам мужчины, которые в одно и то же время прохладно и горячо касались ее кожи; давно знакомые и вечно новые ласки, дары, уже не раз принимавшиеся, но опять позабытые и словно виденные только во сне. Открывались тихие рестораны. Начинались тихие ночные ужины в укромных уголках, где вино, которое они пили, казалось согретым лучами любви, всегда светившейся в этом полумраке. Затем приходило расставание, последнее объятие днем, под предостерегающее тиканье часов на ночном столике, уже исполненное радости следующих встреч, и торопливость, с которой они проталкивались сквозь толпу к поезду, и последний поцелуй на подножке, и в самый последний момент отказ от надежды уехать вместе.
Усталый, но преисполненный всей сладости света и любви, возвращался лейтенант Тротта в свой гарнизон. Денщик Онуфрий уже держал наготове форму. Тротта переодевался в задней комнате вокзального ресторана и ехал в казарму. Прежде всего он шел в ротную канцелярию. Все в порядке, никаких происшествий, капитан Иедличек был весел, силен и здоров, как всегда. Лейтенант Тротта чувствовал облегчение и в то же время известное разочарование. В каком-то потайном уголке сердца он всегда надеялся на катастрофу, которая сделает невозможным его дальнейшее пребывание в армии. О, тогда он тотчас повернул бы назад. Но ничего не случалось. Значит, ему надо ждать еще двенадцать дней, запертым в четырех стенах казарменного двора и пустынных улочек города. Он бросил взгляд на мишени, развешанные по стенам. Маленькие синие человечки, в клочья разорванные пулями и снова подмалеванные, казались лейтенанту злобными кобольдами, домовыми казармы, которые сами грозили оружием, их поразившим, — уже не мишени, а опасные стрелки. Как только он приходил в гостиницу Бродницера, переступал порог своей полупустой комнаты и бросался на железную кровать, он принимал решение из следующего отпуска уже не возвращаться.
Но провести в жизнь это решение не был в состоянии. И знал это. В действительности он ждал какого-то необыкновенного счастья, которое в один прекрасный день выпадет ему на долю и навеки его освободит и от армии, и от необходимости добровольно оставить ее. Все, что он мог сделать, заключалось в том, что он перестал писать отцу и несколько писем окружного начальника оставил нераспечатанными, чтобы прочесть их когда-нибудь потом…
Прошли и следующие двенадцать дней. Он открыл шкаф, осмотрел свой штатский костюм и стал ждать телеграммы. Она всегда приходила в этот час, в сумерки, незадолго до наступления ночи, как птица, возвращающаяся в свое гнездо. Но сегодня ее не было, ее не было и когда уже наступила ночь. Лейтенант не зажигал света, чтобы не замечать ночи. Одетый, с открытыми глазами лежал он на постели. Все знакомые голоса весны проникали к нему через раскрытое окно: низкоголосое кваканье лягушек и над ним нежная и звонкая песнь кузнечиков, изредка прерываемая ночными зовами соек и песнями парней и девушек из пограничной деревни. Наконец пришла телеграмма. В ней сообщалось, что на этот раз лейтенант не должен приезжать. Фрау Тауссиг уехала к мужу. Она скоро вернется, но не знает точно, когда. Телеграмма заканчивалась "тысячью поцелуев". Эта цифра обидела лейтенанта. Она могла бы и не экономить, подумал он. Можно было написать и "сто тысяч". Он вспомнил про свой долг в шесть тысяч крон! По сравнению с ним тысяча поцелуев довольно мизерная цифра.
Лейтенант раскрыл дверь в коридор. Онуфрий постоянно сидел там, молчаливо, или мурлыкая какую-нибудь песенку, или наигрывая на губной гармонике, которую он прикрывал согнутыми ладонями, чтобы заглушить звуки. Иногда он сидел на стуле, иногда прикорнув на пороге. Он мог бы демобилизоваться еще год назад. Но остался. Его деревня Бурдлаки была расположена поблизости. Когда лейтенант уезжал, он отправлялся туда. С собой он брал черешневую палку и белый в голубых цветах платок, который наполнял какими-то загадочными предметами, вешал узелок на палку, перекидывал ее через плечо, провожал лейтенанта на вокзал и, дожидаясь отхода поезда, замирал с рукой у козырька, даже если лейтенант и не смотрел в окно; после этого он начинал свое странствие в Бурдлаки по узкой, поросшей ивняком, тропинке между болотами — единственному безопасному пути в этих топях. Возвращался он, как раз чтобы успеть встретить Тротта. И снова усаживался у его двери, молчаливо, или же мурлыкая какую-нибудь песенку, или наигрывая на прикрытой ладонями гармонике. Итак, лейтенант раскрыл дверь в коридор.
— На этот раз тебе не придется идти в Бурдлаки. Я не уезжаю!
— Слушаюсь, господин лейтенант.
— Ты останешься здесь! — повторил Тротта; ему казалось, что Онуфрий не понял его. Но парень только повторил: "Слушаюсь!" И как бы в доказательство того, что понимает больше, чем ему говорят, пошел вниз и вернулся с бутылкой «девяностоградусной».