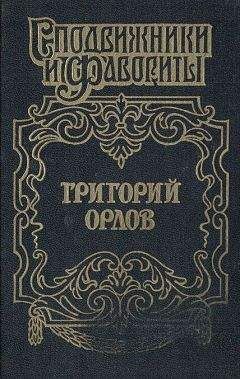— Разве я добиваюсь блеска и богатства? — возразила Аделина, с недоверием и страхом бросая взгляд на сверкающий камень. — Ты знаешь, что я ни минуты не колебалась разделить с моим Василием бедность и нужду; это ты хотела разлучить меня с ним «для моей пользы», — прибавила она с горечью, — это ты хотела продать меня Фирулькину за его миллионы!..
— Ради твоего же счастья, дитя! — сказала госпожа Леметр, все еще вертя камень и любуясь им. — Ради прочности твоего счастья, о котором юность не имеет никакого понятия. Юношеские мечта — это мыльные пузыри, которые блестят алмазами, но разлетаются при первом дуновении жизни, оставив по себе лишь мутную пену. А предложил ли тебе хоть раз этот Фирулькин такой подарок, несмотря на то что он постоянно хвастается своим богатством? О, князь Орлов был совершенно прав: этот Фирулькин — скупой дурак, который умеет загребать богатства, но не умеет их с щедростью раздавать. Правда, мое дитя, правда, ты слишком хороша, слишком красива для этого жалкого Фирулькина, ты достойна большего счастья. Кто знает? Быть может, тебе суждено высшее, никогда не снившееся счастье, быть может, этот камень станет талисманом, откроющим тебе еще более ценные сокровища!
— Я тебя не понимаю, мама, — смущенно заметила Аделина.
— Разве ты не заметила, как сверкали глаза у князя, когда он смотрел на тебя, и как долго он целовал твою руку? — спросила ее госпожа Леметр.
— Мама, мама, — в ужасе воскликнула Аделина, — не говори об этом!
— Конечно, конечно, не следует говорить о таком великом счастье, чтобы не спугнуть его, но избегать своего счастья также не следует, если бы князь полюбил тебя, если бы… О Боже, я даже не смею подумать об этом!
— Молчи, мама! — воскликнула Аделина, бледная как смерть. — Не говори того ужасного слова, которое приводит меня в трепет! Если бы я могла только допустить, что в твоих словах есть доля правды, я бежала бы отсюда на родину, скрылась бы там в самую глухую дыру, я упросила бы Василия последовать за мною и трудами своих рук содержала бы нас там обоих. Как могут тебе приходить такие мысли? Фирулькин предлагал мне вместе со всеми своими богатствами и свою руку, свое имя, а князь… О, Боже мой, какую пропасть разверзаешь ты предо мною, мама! Но это не так, — сказала она, прижимая руки к своей груди, — это не так, не так!
— Ты глупа, тысячу раз глупа! — сказала мадам Леметр. — А если бы это было правдой, то разве это — не счастье, неоценимое, огромное счастье? Разве не достоин любви князь, перед которым все склоняется, все повинуется, который является самым сильным человеком во всем этом необъятном государстве? И я была молода и красива, дитя мое, и мое сердце жаждало радостей любви, но, если бы я встретила такого человека, как князь Орлов, мое сердце устремилось бы к нему и я в восхищении и преданности склонилась бы к его ногам. Его любовь окружила бы тебя ослепительным счастьем, а когда любовь отцвела бы, как все отцветает на земле рано или поздно, ты в достатке ожидала бы старости и жила бы дивными воспоминаниями. Князь наверное осыпал бы тебя сокровищами, которые и не снились никогда этому узколобому скряге Фирулькину…
Аделина вскочила: ее бледное лицо подергивалось, глаза горели так зловеще, что мать в испуге отшатнулась.
— Молчи, — вскрикнула девушка, — я приказываю тебе молчать, чтобы Бог не услышал твоих слов!
Она повернулась и поспешно скрылась в своей комнате, заперев за собою двери на ключ.
Госпожа Леметр посмотрела ей вслед, качая головой, и спросила самое себя:
— Неужели свет изменился? Я не понимаю Аделины, а я ведь также была молода. Каждый человек делает глупости в молодости: сама молодость — это какой‑то безумный бред, на который потом, когда постигнешь истинный смысл жизни, оглядываешься с улыбкой или с сожалением. И она проснется. Каким чудным сном могла бы быть для нее действительность! Счастье блеснуло искоркой, и не моя вина будет, если оно не разгорится ярким пламенем.
Григорий Григорьевич Орлов возвратился в свой дворец. Его ожидал курьер, весь запыленный с дороги. Он привез от губернатора из Москвы срочные, важные депеши. С возрастающим беспокойством прочитал князь эти известия.
— Какой‑то обманщик выдает себя за царя Петра Третьего? — спросил он офицера. — Он находит приверженцев и занял уже город Яицк?
— Точно так, ваша светлость, — возбужденно ответил офицер. — Емельян Пугачев, но народ стекается к нему и присягает ему как царю Петру Третьему, который будто бы был до сих пор где‑то заточен. Настроение войска опасно, многие солдаты дезертировали; Пугачев принимает всех очень приветливо, даже беглых, если они идут к нему на службу, остальных же всех велит расстреливать. Священники благоволят к нему; он объявил отмену крепостного права, и народ тысячными толпами стекается к нему из степей. Губернатор просит немедленно прислать ему войска, так как сомневается в надежности местного гарнизона. Прокламация, выпущенная этим обманщиком, переслана мною губернатору эстафетой; но, несмотря на все предосторожности, невозможно было воспрепятствовать ее распространению среди народа даже в Москве.
— Прежде всего нужно приказать попам, чтобы они наставляли народ, если же они не станут делать это, то вешать их! — сказал Орлов спокойным, равнодушным тоном, изумившим офицера. — Губернатор требует войска, он получит его: у нас, правда, немного лишнего, но при энергичном ведении дела едва ли потребуются большие силы, чтобы разбить дерзкого бунтовщика.
— Будем надеяться, ваша светлость, — произнес офицер, — но число сочувствующих растет с каждым днем, и необходимы неотложные меры.
— Ну, а теперь подождите в передней, — сказал Орлов. — Велите подать себе закуски и хорошего вина; подкрепитесь после быстрой езды, делающей честь вашему служебному рвению, которое будет вознаграждено по достоинству. Затем вы поедете со мной к государыне.
Когда офицер вышел, Орлов еще раз прочитал сообщение из Москвы.
— Ей–Богу, этот Пугачев, кажется, знает свое дело и чрезвычайно искусно и отважно играет свою роль. А что, если это — дело серьезное? Бывали случаи, когда от одной искры целые леса сгорали. Нет, нет, — ответил он сам себе, — это не опасно, не трудно будет справиться с этим сбежавшимся отовсюду сбродом, а этот первый успех был необходим, чтобы достичь цели игры. Но как содрогнется эта высокомерная Екатерина, когда призрак ее покойного мужа поднимет бунт на окраинах, а здесь, непосредственно у ее трона будет готова взлететь на воздух мина, которую благополучно предотвратит моя рука! Как она склонится перед моей рукой, которая одна только способна защитить ее! Пусть она тогда забавляется с Потемкиным или с кем хочет — власть будет тогда в моих руках тем прочнее. И тут же взамен увядающей розы, аромат которой не стоит ее шипов, у меня будет свежий, прекрасный цветок. Но она пусть помнит, что не кто иной, как Григорий Орлов, помог ей добиться трона и только он один может охранить и защитить ее!
Князь позвонил камердинеру и приказал подать себе мундир с андреевской звездой и лентой.
— Петр Севастьянович Фирулькин ждет и настойчиво требует, чтобы его допустили до вас, ваша светлость! — доложил камердинер.
— Пусть войдет этот остолоп! — смеясь, сказал Орлов. — Шуты также необходимы в трагедии, чтобы заполнить паузы.
Вошел Фирулькин.
— Чего тебе нужно, Петр Севастьянович? — спросил Орлов, поправляя голубую ленту у себя на груди и огладывая ироническим взором смешную фигуру низко кланявшегося купца.
— Я пришел к вашей светлости с хорошей вестью, — сказал Фирулькин. — Мне удалось, согласно вашему приказанию, отыскать такую тройку лошадей, какой другой не найдется во всей России, даже в придворной конюшне нашей всемилостивейшей императрицы, да хранит ее Бог. Лошади стоят во дворе вашего дворца, если вы, ваша светлость, милостиво удостоите их своим взглядом, я уверен, что вы останетесь довольны мною.
— Ах, я почти уже забыл об этом, — небрежно ответил Орлов, — но если ты говоришь правду, то похвально твое усердие. У меня нет времени, служебные дела призывают меня к императрице, но на одну минуту я все же выйду взглянуть на твою тройку.
Он вышел, Фирулькин последовал за ним, смиренно склонившись.
В передней Орлов сделал знак офицеру, привезшему депешу из Москвы, и вместе с ним спустился во двор, где застал своего шталмейстера и украинскую тройку.
Фирулькин не преувеличил, лошади были действительно необычайно красивы и конюшие единогласно признали, что они превосходят красотой всех лошадей царской конюшни.
Орлов потрепал их лебединые шеи и приказал отвести в конюшню к своим любимым лошадям, которые кормились из мраморных яслей и пили из серебряных бадей.
— Я доволен тобой, Петр Севастьянович, — сказал он Фирулькину, — ты можешь рассчитывать на мою милость!