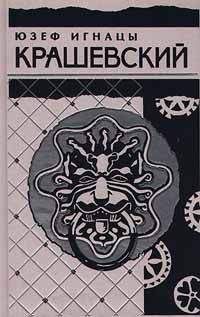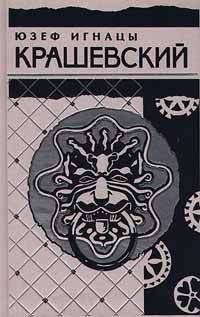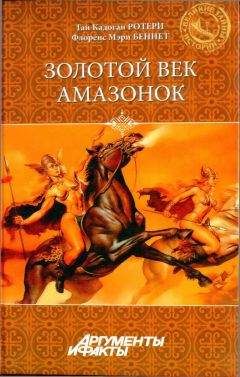— Граф, вы шутите надо мной, — отвечала серьезно Фаустина, смотря на него с видимым сожалением. — Я со двором знакома только со сцены. На сцене я королева, или богиня, а сойду с подмосток, я делаюсь незаметным существом, которое не знает ни о чем, что делается на свете.
— Однако, — тише начал Сулковский, — скажите вы мне, не слышали ли вы чего-нибудь? Или вся эта гроза скопилась надо мной по старанию вашего приятеля Гуарини?..
— Ничего, ничего не знаю, — кивая отрицательно головой, прервала Фаустина. — С меня довольно одних хлопот о театре. Очень может быть, что против вас составляется заговор, но вы разве можете бояться?
— Конечно, не боюсь, но хотел бы, хоть из любопытства, знать, что там такое?
— Конечно, зависть и соперничество, — произнесла Бордо-ни. — Мы актеры с этим очень знакомы; вещь самая обыкновенная.
— А какое на это может быть лекарство? Фаустина пожала плечами.
— Кто может, должен удалиться, убежать, а кто имеет охоту бороться, должен долго держаться в бою, потому что успокоения нигде и никогда не найдешь.
Сулковский не смел ей напомнить тех предостережений, которые она ему давала несколько месяцев тому назад, но теперь ее слова и обхождение были другие. Фаустина боялась. Видя, что здесь он ничего не узнает, граф, расспросив о музыке, опере, о Гассе, прошелся несколько раз по гостиной и распрощался с Фаустиной. Он поехал прямо домой.
Несмотря на надежду, которая его до сих пор не оставляла, он быль пасмурен и едва сдерживался от раздражения, которое он чувствовал. Возле подъезда своего дома он увидел придворный экипаж. Баронесса Левендаль, дочь гофмейстера, приехала к его жене. Сулковский вошел в залу. На диване сидели две дамы, занятые оживленным разговором. Баронесса Левендаль была живая дамочка, уже не очень молодая, но отлично всегда осведомленная о всех текущих новостях. Когда вошел граф, она вскочила с дивана и подбежала к нему. На ее лице выражалось необычайное смущение.
— Граф, вы мне можете лучше всех все объяснить! — воскликнула она, здороваясь. — При дворе произошли, или готовятся перемены, мы не можем отгадать, в чем дело.
— Но откуда вы вывели подобные заключения? — спросил Сулковский.
— Я это знаю точно, — начала быстро баронесса. — За час перед этим, король послал за старым генералом Бодиссеном, который лежит больной в подагре. Генерал, который едва в состоянии с палкой пройтись по комнате, просил извинения у короля, что не может приехать, но несмотря на это, за ним послали в другой раз, и я собственными глазами видела, что он встал и поехал в замок.
— Не знаю, что там такое произошло, — спокойно отвечал Сулковский, — я был два раза в замке, но так неудачно, что не мог видеться с королем.
Он засмеялся, а баронесса продолжала щебетать.
— Вот уже несколько дней повторяют, что Бодиссен, который несколько раз просил об отставке, наконец, теперь ее получил; в этом нет ничего худого, потому что ему давно пора на покой. Но что гораздо хуже, говорят другие, что мой отец тоже будет удален.
— Не думаю, — сказал Сулковский, — но так как я не был несколько месяцев в Дрездене, то и не знаю никаких новостей.
Баронесса Левендаль посмотрела на него.
— Но ведь легко догадаться, что места нужны для новых любимцев.
— Тише! Тише! — перебила графиня. — Право, я боюсь даже слово произнести…
Граф пожал плечами.
— Напрасные опасения, — сказал он, — скоро все дела примут другой оборот.
При этих словах вошел камердинер и доложил:
— Его сиятельство гофмейстер Левендаль и генерал Бодиссен. Все переглянулись, баронесса побледнела и опустилась на диван.
— Проси! — воскликнул Сулковский, приближаясь к дверям.
В ту же минуту вошли гости, и Левендаль, увидев дочь, посмотрел с удивлением и с упреком, зачем она сюда приехала. Приветствие было натянуто. Граф, не зная, чем объяснить их приезд, принял гостей сдержанно и холодно; он пригласил их сесть, но генерал Бодиссен приблизился к нему и сказал:
— Граф, позвольте говорить без свидетелей; мы приехали с поручением от короля.
Лицо графа ничуть не изменилось, он пригласил гостей пройти в кабинет. Дамы не могли слышать тихого разговора; сидели испуганные и заинтересованные. Графиня была бледна и дрожала, имея предчувствие чего-то недоброго. Баронесса хотела ехать, но графиня умоляла ее остаться.
Между тем, в кабинете происходило следующее.
Бодиссен, старый послушный солдат, с видимым неудовольствием достал из кармана бумагу… Приказ из королевской канцелярии, собственноручно подписанный королем. Молча он подал его Сулковскому, который, пройдя из залы в кабинет, как будто переступил порог другого света, стоял бледный и, видимо, сраженный ударом. Дрожащими руками он взял бумагу, читал ее, но ничего не понимал. Он совсем растерялся.
Левендалю, хотя и жаль было графа, но ему поскорей хотелось удалиться отсюда и, видя, что граф ничего не говорит, и как будто ничего не может понять, стал за ним и начал громко читать. Бумага состояла из нескольких коротких выражений.
"Его Величество король убедился в том, что граф Сулковский уже несколько раз и даже в последнее свидание осмелился забыться в присутствии короля, поэтому Его Величество нашел справедливым — сложить с него все обязанности, которые были на него возложены и отставить его от должности. Однако, принимая во внимание его долголетнюю службу, соизволил ему назначить пенсию, как генералу".
Вероятно, Сулковский ожидал чего-то худшего, судя по той судьбе, которая встретила других; вскоре он совершенно пришел в себя.
— Воля его величества короля, — сказал он, — для меня священна. Хотя я чувствую себя несправедливо обиженным, по всей вероятности по милости моих врагов, но я перенесу с покорностью, что меня постигло. Если я даже позволял себе лишнее в присутствии короля, то, конечно, вследствие моей привязанности к королю, но никак не вследствие неуважения к нему.
Ни Бодиссен, ни Левендаль ничего не отвечали, и несчастный граф, перед которым еще недавно все падали ниц, должен был терпеть первые следствия немилости. Прежняя учтивость забылась. Бодиссен обращался с ним, как с равным, а Левендаль, как с подчиненным. На их лицах заметно было беспокойство и желание как можно скорее удалиться. Оба холодно поклонились. Граф ответил им на поклон и проводил в залу; здесь свысока отдав поклон дамам, они удалились.
Граф, уже совсем оправившись, вежливо проводил их до сеней и вернулся в залу; графиня ничего не могла прочитать на лице мужа, так оно было спокойно; но все-таки этот тайный разговор не мог быть ничего не значащим.
Баронесса все еще не уходила, желая узнать о чем-нибудь, но не смела ничего спрашивать.
Хладнокровно граф подошел к столу и посмотрел на жену; лицо последней выражало беспокойное любопытство.
— Могу тебя поздравить, — сказал он, слегка дрожащим голосом, — мы уже уволены. Его величеству угодно было удалить меня от службы; меня это нисколько не огорчает, а только я жалею короля. Но при теперешних обстоятельствах при дворе трудно оставаться благородному человеку.
Графиня бросилась на диван, обливаясь слезами.
— Дорогая моя, — сказал граф, — умоляю тебя, успокойся. Причина моей отставки как будто бы та, что я позволял себе лишнее в присутствии короля; это означает то, что я говорил неприятную правду; король соизволил мне назначить пенсию, но даровал мне неоцененную свободу. Мы поедем в Вену, — прибавил граф, протягивая руку жене.
Баронесса с удивлением смотрела на графа; она не могла понять того спокойствия, с каким он принял свое падение.
Действительно, гордость не позволяла графу сильно переживать огорчение и показывать его; после первого удара он скоро оправился и принял с достоинством то, что судьба ему предназначила. Очень может быть, что он надеялся на перемену…
Графиня плакала.
Баронесса почувствовала, что она здесь лишняя, потому что утешить не могла, между тем, своим присутствием она мешала им утешать друг друга в горе и молча, пожав руку своей приятельнице, удалилась из комнаты. Графиня упала лицом на диван.
— Дорогая моя, — воскликнул граф, — заклинаю тебя всем, будь мужественна! Нам нельзя показывать, что мы огорчены. Мы должны быть благодарны доброте короля, что я не выслан в Кенигштейн на место Гойма и вместо того, чтобы у нас взять имение, нам назначена пенсия. Изгнание, к которому я присужден, нисколько меня не страшит и не отнимет надежды… уничтожить все то, что произвела ловкая рука моего почтенного и верного приятеля Брюля. Прошу тебя, друг мой, успокойся.
Но слезы высушить было не легко.
Сулковский посмотрел на часы и, подав руку жене, повел в ее комнаты.
Величайшее презрение к человеческому роду может возбудить поведение людей, когда человека постигает упадок и унижение. Все тогда от него отворачиваются, переменяются с ним в обращении, между тем, как еще за минуту преклонялись перед ним, когда он был баловнем судьбы.