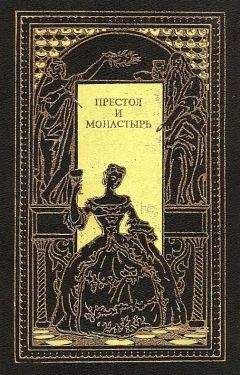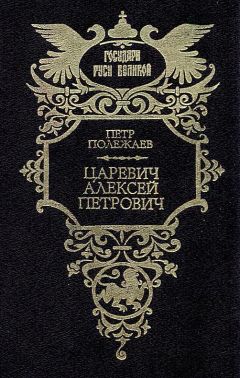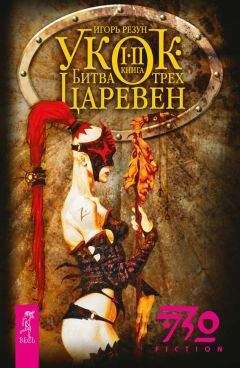Но этим еще не кончилось. 4 же марта выстроен был на Красной площади каменный столб с вделанными в него пятью шпицами. По совершении казни в Преображенском трупы были перевезены на площадь, головы воткнуты на шпицах, а тела разбросаны кругом столба. И долго, в продолжение нескольких месяцев, торчали эти головы на шпицах, а разлагающиеся трупы заражали воздух.
Это был прощальный привет Москве от Петра перед отъездом его в чужие края.
Не избегли опалы и родственники казненных. Все они были разосланы по отдаленным городам, причем некоторые были лишены чести и званий. Заодно уж ссылка поразила и родственников молодой царицы — Лопухиных. Федор Абрамович, отец царицы Евдокии, сослан в Тотьму, а дяди ее, Василий и Сергей Абрамовичи, первый — в Саратов, а второй — в Вязьму. Но за какие вины сосланы были они, про это знал только Петр…
Участия царевны Софьи Алексеевны в заговоре убить государя розыскное дело не обнаружило, но тем не менее одно упоминание имени сестры, как претендательницы на престол в случае смерти государя, навлекало на нее подозрение и возбуждало стихнувшую вражду. Не желая оставлять царевне и малейшей возможности воспользоваться его отсутствием, Петр приказал усилить караулы (не менее ста человек) под начальством полковника и двух капитанов, строго охранять и днем, и ночью все монастырские входы и не пропускать туда никого из посторонних, даже нищих и богомольцев.
— Стрельцы к Москве пришли.
— Что будет им?
— Велено рубить.
— Жаль мне их, бедных!
Переписывались между собой царевны Марфа Алексеевна и Софья записками, спрятанными в стряпне (в хлебах, пирогах) или в рукоделии. Да и кроме этих лаконических известий, Софья Алексеевна имела самые полные, подробные сведения обо всем, что делалось в Москве, и даже о том, чего вовсе не делалось, но могло делаться (в плодовитом воображении стрельчих и комнатных постельниц), от карлицы Марфы Алексеевны, приносившей стряпню к заключенной царевне в Новодевичий монастырь.
Первые числа апреля 1698 года. Истекает великий пост, и в монастыре делаются приготовления к встрече светлого праздника. Правда, не прежние это приготовления. Бывало, в Вербное воскресение и во всю страстную седмицу народу в монастыре видимо-невидимо: и богомольцев, и заказчиков разных обнов, вышиваний и изукрашенных верб, а теперь пусто — ни молельщиков, ни нищих на обширном монастырском дворе, по которому изредка пробежит только какая-нибудь послушница за приказанием к матери игуменье или к казначее. Посторонних никого, у ворот стоят крепкие караулы царского войска и не пропускают почти никого, разве уж по особому разрешению князя Михаила Григорьевича Ромодановского. Но и здесь, как и везде и во всех репрессивных мерах, страдают только невинные, а кому нужно… те изобретут дорогу…
Утомленная продолжительной утренней службой воротилась царевна Софья в свою келью. От весеннего ли утреннего воздуха, от внутреннего ли волнения или от болезненного нервного настроения, но, несмотря на утомление долгого стояния, Софья Алексеевна выглядела не по-прежнему. Розовый румянец густо застыл на щеках, начинавших тускнеть, полуопущенные, как и подобает монастырке, глаза по временам бодро и весело оглядывают кругом, порой какая-то странная усмешка пробежит по сжатым губам. Царевне 42-й год. Состарившаяся в последнее время вдруг на несколько лет, она теперь снова как будто помолодела, и как будто тверже стала ее походка.
Быстро сбросив и откинув в угол свое покрывало и верхнее платье, царевна осмотрелась и, удостоверясь, что в соседней комнате нет никого, опустилась в кресло, стоявшее перед ее рабочим столиком, на котором в беспорядке лежали ее вышивание и несколько книг. С неудовольствием оттолкнув свесившуюся со стола швейную работу, она поставила на стол оба локтя, оперев на руки поднятую голову. Вся фигура ее была — нетерпение.
За нею следом вошло в комнату, ковыляя немного на правую ножку, маленькое худенькое существо с ребячьим телом и с несоразмерно развитой головой — карлица Марфы Алексеевны, Дуня. При всем безобразии своем карлица не была неприятна, напротив, в самом безобразии сказывалась симпатичная миловидность. Разноцветные глаза — один глаз голубовато-серый, другой карий — смотрели так смышлено, лукаво, но вместе с тем и так приветливо, широкий рот, чуть не до ушей, с толстыми губами, складывался в постоянную добродушную улыбку. Со всеми была она в дружбе; на что уж был злющ лохматый пес Солтан, не пропускавший без ворчания никого из прохожих, и тот при каждом выходе Дуни на задворок важно подходил к ней, становился на задние лапы, вскидывал передние к ней на плечи и лизал морщинистый лоб. И все любили ее, начиная с прачки и оканчивая царевной Марфой Алексеевной; все, и постельницы, и сенные девушки, постоянно поверяли ей секреты, тайные похождения; все пользовались ее услугами, и никому никогда не изменяла она.
Войдя в комнату, карлица набожно помолилась перед иконами, отвесила земной поклон царевне и, поцеловав ее руку, стала у рабочего стола, смиренно сложив калачиком маленькие ручки.
— Заждалась я тебя, Дуня, измучилась совсем. Что у вас там делается на Верху? — закидывала вопросами царевна.
— Чему делаться-то, матушка государыня, акромя дурного… ничего. Ноне времена… и… и… — протянула карлица, в пояснение покачав головой.
— Что тот-то? Все нет от него писем, Дуня?
— Ничего нет, матушка, ни строчки. Вот уж сколько времени словно камень в воду — сами потешные дивуются. Слышно, говор такой в народе идет, будто кончился… И царство бы ему небесное, пусть бы вселил его в селения праведных… и здесь много накуролесил. Вот хоть и ноне. Уехал к еретикам, прости ему, Господи, бросил все, а потешные всем орудуют. На днях Федоровна, барская барыня при княгине Прасковье Ивановне Ромодановской, — а как бы ей не знать аль солгать, при мне сказывала стрельчихе Артарской, будто бояре хотели не то удушить, не то украсть ребенка-царевича и платье на него уж другое надели, да царица проведала и не допустила. Так бояре и царицу-то по щекам били. Ну, слыханное ли такое дело? Не так было при тебе, государыня-матушка, когда ты державствовала… И жалеют-то тебя теперь как!..
— Жалеют, Дуняша? Кто? Стрельцы? А не сами ль они меня выдали? Я ли их не жаловала?
— Все неразумие наше, государыня, одно. Теперь спохватились… И плачутся же они как по тебе! Ведь нам все известно. Стрельчихи не токмо на кормках, а и в будни завсегда у наших постельниц… говорят ведь…
— Что они рассказывают? На что больше жалуются?
— На все, государыня, житья им нет. Государь, как связался с немцами, совсем переменился, зверем смотрит на них… Как только принял державство, так и пошел курить. Помнишь, бывало, при тебе стрельцам был спокой, служба не тяжкая, пришел с караула — лежи себе аль торгуй, а у него какой покой! Ноне поход, завтра поход, то крепости ему рой, то баталии производи, а вместо спасиба одни насмешки да унижения. Везде, вишь, немцы берут верх, а наших бьют да срамят. Вон под Азов, под турку, пошли, и там от немцев житья не было. Немец поведет подкоп будто под крепость, а в сам деле наших православных взорвет. На штурму, где больше бьют, туда и посылали стрельцов. Больно их, говорят, много легло под Азовом. А как взяли Азов, ну, думают стрельцы, теперь отдохнем дома в матушке-Москве, ан немцы и тут удружили. Всех, как есть всех разослали: кого под Азовом оставили на тяжкую работу, кого в обереженье от турка иль поляка по рубежам отослали, в Москве как есть ни одного стрельца, только одни потешные да солдатские. Ну сама посуди, государыня, каково им? Сами на чужой стороне голодуют, извелись, а в Москве их жены без мужей, дети без отцов совсем обнищали, оборвались все, только и живут милостыней Христа ради. Нешто от хорошего житья прибегли они сюда!
— Сколько, Дуняша, прибежало?
— Сотни две, матушка, да они и все готовы сбежать…
— Что они гадают, Дуняша, на чем решили?
— Решили, государыня, привести опять тебя на державство. Моление ведь свое они тебе передали?
— Передали, Дуня, и я грамотку им от себя послала. Переслала им сестрица?
— Как же, государыня, передала. При мне матушка Марфа Алексеевна посылала постельницу Клушину с грамоткой к стрельчихе Анютке Никитиной, чтоб та передала Ваське Туме. При мне и наказывала ей строго-настрого. «Письмо я тебе отдаю, — приказывала царевна, — поверя тебе, а буде пронесется, тебя же распытают, а мне ведь, опричь монастыря, ничего не будет!» И передала Никитина письмецо Туме, я доподлинно знаю, передала на дворишке его у Арбата, у явленного Николы.
— Спасибо сестрице Марфе Алексеевне, не забывает она меня, заключенную, — с чувством проговорила царевна, задумавшись.
— Как можно забывать, — отозвалась словоохотливая карлица. — Помнит твою добродетель, как ты была в державстве. Да и другие твои сестрицы, Мария, Екатерина и Федосья, тоже не забывают. Бывало, нет им от тебя ни в чем отказу, чего только душенька пожелает. Ну, а теперь нет… не то… не подступиться… скуп. Может, и дает… какой Монсовой…