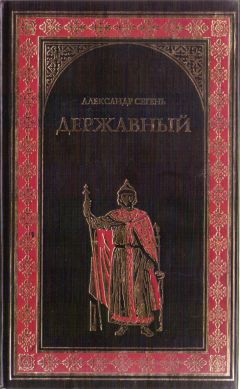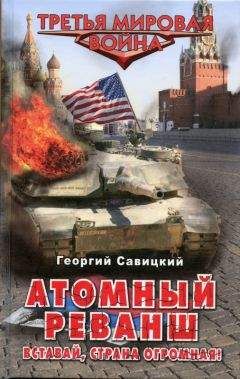— Ну вот, — почему-то нисколько не расстроившись, сказала бабушка, — значит, в этом году помру. Наконец-то. Зажилась. Шестой десяток. Поеду к своему Васеньке. Каково ему там, в раю, слепенькому! Никто так, как я, не приголубит.
— Что ж, разве он и в раю не прозрел? — фыркнул Иван Иванович.
Ряполовский выбрал дубовку с белоснежной хрустящей мякотью.
— Хороша! — нахваливал. — Ежели такой у меня год будет, я согласен. А ну-ка, Марья Ярославна, дай-ка я твою попробую! А что-то она нисколько не горькая? Ах обманщица, княгиня, ах лукавая!
— Да ладно тебе, Семён Иванович, а то я вкус утратила, как покойник Шемяка и брат его, — весело махнула на боярина бабушка.
— Ну а твоя зимушка? — спросил Ряполовский слугу Василия.
— Не доспела ещё, — отвечал Василий.
— Ну, стало быть, ты в этом году ещё не доспеешь! — засмеялся Ряполовский.
Появилась тётка, Анна Васильевна, княгиня Рязанская. Выбрала себе водяницу, с удовольствием отведала.
— Хороша? — спросил Ряполовский.
— Очень, — улыбнулась тётка.
— Значит, сына родишь хорошего, — кивнула бабушка на большой живот своей дочери, которая, по всем подсчётам, через пару недель уже должна была родить.
— Сочного такого! — добавил Семён Иванович.
— Сырости много разводить будет, — рассмеялась тётка Анна.
Появился дядька, Андрей Васильевич Меньшой, князь Вологодский, знаменитый сонливец. Зевая, тоже отведал канталупку.
— Сладкая. — Сказал и пристроился в уголке, задрёмывая.
— Э-и-эх! — проворчала бабушка Маша. — Брат тебе Вологду завоевал, а ты так и не проснулся!
— Она и так моя была, Вологда, — буркнул дядя Андрей.
— Твоя, да не твоя, — возразила тётя Аня. — Ушкуйники все на неё зарились. Никак не хотели признавать её за Москвою.
Появился игумен Чудовского монастыря Геннадий. Две недели назад он вернулся на Москву вместе с митрополитом Филиппом. Даже попов и монахов брал с собой в поход отец, а своего тринадцатилетнего сына не взял. Причём тринадцати с половиной лет! Зачем тогда на коня в четыре года саживали? Как раз в такой же точно день первого сентября девять лет тому назад.
— А сегодня четверогодков будут кого-нибудь сажать на конь? — спросил Иван Иванович.
— А как же, — отвечал слуга Оболенский. — Племянничка моего, Сашу, воеводы Александра Васильевича сына. Ему в июне четыре исполнилось.
— И моего внучека Митьку, — добавил Ряполовский. — Ему тоже четыре.
— Ну, пора нам выходить с Богом, — сказал игумен Геннадий, заканчивая есть свой кусок дыни, простодушно вытирая пальцы о край рясы. — Андрей-то Василия спит опять? Не пойдёт с нами?
— Да куды ему, засоне! — ответила бабушка Маша. — Ступайте без него. У него, поди, и ангел-хранитель ещё не проснулся.
— А князь Дмитровский? — спросил игумен.
— Жар у него, — вздохнула бабушка.
Дядя Юра, Юрий Васильевич Дмитровский, вернулся из похода тоже раньше времени, вместе с Геннадием и митрополитом. Расхворался, бедный. Ваня его недолюбливал. Хворый был дядя Юра, вечно от него пахло болезнью и сыростью. Тихий, молчаливый, пришибленный. И бездетный. А бездетных на Москве за мужчин не считают. Над бессыновными подшучивают, а уж бездетных и вовсе презирают. И всё-таки Ване вдруг стало жаль дядю Юру — все веселятся, новый год, дыню отведывают, ждут возвращения победителей, а несчастный Юрий Васильевич лежит и болеет. Ни то ни се. Вроде и в походе побывал, а слава мимо него прошла. И победителей встречать не пойдёт, и на пиру не посидит, не повеселится.
Вскоре на бодрых лошадках выезжали из Кремля. Впереди ехал знаменосец, неся на высоком копьё хоругвь княжича Ивана Младого, па которой был изображён его святой — Иоанн Предтеча, в одной руке крест, а другую он вознёс вверх, в ней — раковина, из раковины истекают воды Иордана и льются на голову Спасителя, которую Христос склонил пред Иоанном, принимая от него крещение. Над раковиной — белая голубка.
За знаменосцем ехали два латника в сплошном доспехе, далее следовал сам Иван Иванович, игумен Геннадий и Семён Иванович Ряполовский. За ними следовали касимовский царевич Муртоза и князь Василий Иванович Рязанский, муж тёти Ани, приехавший пару дней назад, чтобы принять участие в торжествах и чествовании победителей. Четверо воинов-рязанцев замыкали сей конный поезд. Ехали медленно, ходой, и можно было смотреть по сторонам и беседовать.
— А у меня горе, — сказал Геннадий. — Иеромонах Фома ночью скончался. Угораздило же его не дожить до сегодняшних радостей!
— У него зато теперь иные радости, — сказал Ряполовский. — Это тот самый Фома, с которым ты тогда в Муром пришёл, сопровождая Иону?
— Он самый, — вздохнул игумен. — Хороший был инок.
По Красной площади к Успенскому собору спешили люди — там начиналась утренняя служба. Дождик кончился, первые лучи рассвета блестели на мокром золоте купола и креста главного кремлёвского храма. Сам храм, увы, выглядел отнюдь не торжественно — покосившийся, треснувший и подпёртый огромными брёвнами, готовый вот-вот рухнуть, как умирающий старик, которого всё же вывели на двор встречать долгожданного сына с войны.
Все, кроме князя Ряполовского, постарались не заметить плачевности храма. Василий же Иванович не удержался от замечания:
— Давно пора вам на Москве новое Успенье возводить.
— Что пора, то пора, — вздохнул Геннадий, видимо, всё ещё горюя об усопшем монахе Фоме.
— У кого горе, а у кого радость сегодня — всё перемешается, — сказал Ряполовский. — Кто будет живых ласкать, а кто — мёртвых поминать. Сколько славных витязей война унесла.
— Боярин Сорокоумов-Ощера так и остался на Шелонской бице при могиле убитого сына, — сказал игумен. — Хочет там обитель строить.
— А у меня как раз сегодня радость, хлопот полон рот, — улыбнулся, видимо, желая отвлечь от грустной беседы, Ряполовский. — Дочку самую младшую замуж отдаю. Все мои детушки теперь будут пристроены. Можно и мне в монастырь. Возьмёшь к себе в Чудов, Геннадий?
— С превеликой, — отвечал игумен, улыбаясь сквозь печаль.
Выехали за ворота, проехали по мосту через Неглинную, двинулись по Тверской дороге. Ваня вдруг испугался, что прямо сейчас и покажется войско отца. Ему же хотелось как можно дальше от Москвы отъехать, чтобы отец видел, как он по нему соскучился. Несмотря на чудовищную обиду, Иван чувствовал, как слепо и самозабвенно любит отца, как жаждет обнять его, прижаться к нему — высокому и могучему. В нём боролись два желания — поскорее увидеться и как можно дольше оттянуть радостный миг свидания. Он достал из сумки пирожок и стал его жевать.
— С чем выпечка, Иван Иванович? — спросил Ряполовский.
— Хошь с мясом, хошь с белорыбицей, хошь с налимьей печёнкой, — ответил княжич.
— Кинь-ка и мне с мясом, — попросил Семён Иванович. — Спасибо, милый друг! Хорош пирожок! Геннадий, не хочешь? Зря! Эх, а и впрямь, что ли, в иноки податься? Надоела женатая жизнь! Кажется, всем угодил жене — сыновей поднял на ноги, женил, старший вон воевода великокняжеский; дочерей замуж за лучших московских детей боярских выдал, богатство в достатке, а она вечно нерадостная, недовольная, жена-жёнушка-жонка!
— Мужчины счастливее женщин, — сказал Геннадий. — Бабы все обиды, все горести в себе копят, терзаются всю жизнь. А у мужчины душа всегда на сквозняке, хорошо проветривается.
— Как это — на сквозняке? — рассмеялся Иван Иванович.
— Ну, как бельё на верёвке, — пояснил игумен.
Ивану всё равно осталось непонятно и смешно. Так и виделись мужские души, вывешенные кем-то на просушку.
По обе стороны дороги шли люди — многие москвичи, встав пораньше и помолясь Богу, отправились встречать своего государя. Кто в надежде на щедрые подарки, а кто и просто так, от радости. При виде знамени Ивана Младого они останавливались и низко кланялись, широко улыбаясь.
— Ты, Геннадий, так про баб рассуждаешь, будто сам всю жизнь женат был, — заметил Ряполовский.
— Женат не был, а знаю много, не меньше вашего, женатого, — отвечал игумен. — Исповедую ведь, и часто одно и то же слышать приходится.
Вдалеке справа били колокола Боголюбского[101] монастыря, основанного Дмитрием Донским после возвращения с Куликовской битвы. Последовав примеру игумена Геннадия, все перекрестились на сей благовест.
— Ишь, как красиво у боголюбцев новый колокол поёт, — сказал Геннадий. — Фома покойный всё хотел его послушать…
Откуда ни возьмись, какой-то непонятный голод навалился на княжича, и он уже доставал из сумки третий пирожок. Хорошо, бабушка позаботилась! Милая бабушка, она так болела всё минувшее лето, так задыхалась постоянно, а он — ласкал ли её? жалел? Нет! Только и делал, что грубил, лелея в душе своей жгучую обиду на отца за то, что не взял в поход. Нет, надо кончать с обидами! Проветривать душу, как сказал игумен Геннадий. Ванюше представилось, как боярин Семён Ряполовский выносит и его свежепостиранную душу и вывешивает сушиться.