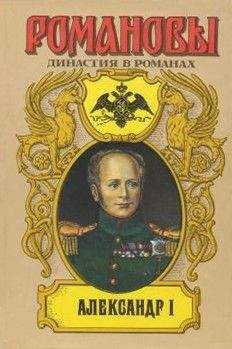Не менее князя был поражён этим открытием и Пётр Петрович. Он, сознавая своё неловкое положение быть свидетелем продолжения разговора между князем Сергеем и Николаем Цыгановым, хотел выйти из комнаты, но Гарин знаком его остановил. Князь, обратившись к молодому прапорщику, тихо спросил:
— Чего же ты хочешь? Своих прав, имени?
— Зачем мне права, а имя я уже имею: благодаря своей боевой службе я заслужил это имя, хоть и не громкое, — так же тихо ответил Цыганов.
— Что же тебе надо? Денег?
— Мне не надо денег. Пользуйтесь вы, князь, и богатством, и громким титулом.
— Что же тебе нужно? — с удивлением спросил ещё раз князь.
— Не обходитесь со мною так презрительно, не смотрите на меня как на жалкого подкидыша.
— А ты забыл свои поступки — грязные, чёрные?
— Поступки мои простительны, это порывы молодости, увлечения. Вы влюбляетесь, увлекаетесь — и у меня есть тоже сердце. Я лишён права, имени, но это не мешает мне любить, увлекаться. Я молод! Вижу, князь, вы сильно встревожены, у вас уязвлено самолюбие, вам тяжело примириться с тем, что приёмыш доводится вам братом. Успокойтесь, никому не открою этой тайны, останусь для вас по-прежнему Цыгановым-подкидышем — и только. Простите, я зайду в другой раз, — проговорил Николай и такой же горделивой походкой вышел из кабинета своего брата.
Вернёмся несколько назад и расскажем, как Цыганов узнал тайну своего происхождения.
Мы знаем, что он сжёг избёнку Сычихи и отправился по дороге к Москве; отойдя вёрст сорок от княжеской усадьбы, он встретил странницу или богомолку, одетую в посконный сарафан; голова у неё была низко прикрыта чёрным платком, на ногах лапти, в руках длинная, суковатая палка, а за плечами сумка, прикрытая клеёнкой. Эта странница была ещё не старая женщина, и, несмотря на худобу и утомление, черты лица были правильны и красивы; особенно хороши у неё были чёрные глаза, которые хотя и начинали уже потухать, но всё ещё ласкали, нежили; густые соболиные брови ещё более придавали красоты этой прохожей богомолке; с лица она очень походила на Цыганова.
— Здорово, господин честной, — низко кланяясь Николаю, тихим приятным голосом проговорила она.
Николай посмотрел на странницу и, поражённый сходством своего лица с её, остановился как вкопанный.
Странница тоже остановилась и, пристально посмотрев на Цыганова, сама не менее его удивлялась этому сходству.
— Куда ты идёшь? — продолжая смотреть на странницу, спросил Цыганов.
— В Кострому, милостивец, на богомолье. Чудотворному образу Пресвятой Девы поклониться, что находится в Ипатьевском монастыре. Не знаешь ли, далеко ли до Костромы?
— Вёрст полсотни будет, — ответил молодой человек.
— Ох, далёконько мне ещё идти-то, отдохнуть присяду, ноги разломило; много шла, устала.
Богомолка сняла с плеч котомку, положила рядом с собою и села на траву.
Цыганов тоже сел почти рядом с богомолкой; его тянула к ней какая-то сила, он задумал подробно разузнать, кто она. Сходство лиц смущало молодого человека; навело на раздумье и странницу.
— А из Костромы ты куда пойдёшь? — спросил у ней Цыганов.
— В Каменки думала пройти.
— В Каменки?
— Да, в Каменки, ведь по дороге.
— Это в усадьбу князя Гарина? — с удивлением спросил молодой человек.
— Да, господин честной, Каменки принадлежат князю Гарину, — задумчиво, с глубоким вздохом ответила богомолка. Она печально наклонила свою голову. — А ты знаешь разве княжескую усадьбу? — спросила она, поднимая на Цыганова свои глаза.
— Да… Знаю, — сквозь зубы ответил Николай.
— Жил там, что ли?
— Жил с малолетства. До войны безвыездно в Каменках жил.
— Что же ты, сродни князьям-то приходишься? — допытывалась у Николая странница.
— Нет, я чужой им.
— Видно, из дворовых будешь?
— И не из дворовых… приёмыш я княжеский.
— Как?.. Как ты сказал? — вся встревоженная, переспросила странница.
— Приёмыш, говорю я; меня младенцем к княжеским воротам подкинули, — пояснил ей Цыганов.
— А звать тебя как?.. Звать-то? — бледнея, спрашивала его задыхающимся голосом богомолка, не спуская с него глаз.
— Николаем, — ответил молодой человек.
— Николаем… Николаем… Господи, неужели это он… он… мой Николюшка, — не говорила, а шептала странница; её волнение было так велико, что она задыхалась.
Цыганов это заметил.
— Что с тобою, ты нездорова? Дрожишь.
— Крест, крестик покажи мне… покажи.
— Какой крестик?
— Твой — что на тебя при крещении надели.
— Что ты, зачем? — удивился молодой человек.
— Покажи, Христом Богом прошу покажи.
— Ну, вот. Смотри, пожалуй…
Цыганов расстегнул пуговицы сюртука и достал свой тельный небольшой золотой крест, на нём были вырезаны две буквы В и М.
Странница пристально осмотрела этот крест и крик радости вырвался у ней из груди:
— Сын мой, Николюшка, сыночек! — она крепко обняла молодого человека и замерла, не выпуская его из своих материнских объятий.
— Постой, постой, может ты ошибаешься, — стараясь высвободиться из объятий странницы, сказал Николай.
— Я-то ошибаюсь? Разве сердце матери может ошибиться? Ты мой сыночек, Николюшка! Двадцать лет тебя не видала, трудно признать, всё-таки признала, сердце на тебя указало. Ведь материнское сердце — вещун. Родной ты мой!
— Матушка, матушка!
И молодой человек бросился обнимать свою мать. Её слёзы он смешал со своими слезами. Когда первый порыв радости прошёл, Николай обратился к матери с такими словами:
— Матушка, кто же мой отец?
— Не спрашивай, сынок, не спрашивай.
— Почему же? Мне хочется знать — жив ли он?
— Жив, Николюшка, жив твои отец.
— А кто он, матушка?
— Важный барин. Да не спрашивай сынок, не растравляй мою сердечную рану: спросы твои тяжелы. Я теперь так счастлива, так счастлива!.. Ведь более двадцати годов прошло, как я с тобою рассталась, тогда ты был младенчик махонький, а теперь ишь какой вырос! Хороший ты мой, пригожий!..
Счастливая мать любовно и весело посматривала на своего сына, она своею загорелою рукою гладила его по голове ласкала, миловала.
Николай сидел, понуря голову он что-то обдумывал.
— А зачем, матушка, меня ты бросила у княжеских ворот? — спросил он, пристально посматривая на мать.
— Не я это сделала, а другие за меня. Разве у меня поднялись бы руки на такое дело? Ведь матери с дитём своим расстаться — что с жизнью! Да ты, Колюша, дороже жизни мне!
— Матушка зачем же ты в ту пору отдала меня, зачем меня подкинули?
— И не отдала бы, сынок, да сильно в ту пору хворала, без памяти, слышь, была; не помнила, как тебя отняли от моей материнской груди.
— Так не скажешь, матушка, кто мой отец?
— Теперь не скажу сынок, время придёт — сам узнаешь.
— Мучительно мне это, родная, больно мучительно!
— Что, Николюшка, что? — с беспокойством спросила мать у молодого человека.
— А эта безвестность — мать я нашёл, а отца?
— Отца ты, дитятко, никогда не найдёшь, забудь про него — он важный барин, где ему об нас помнить. Стара стала Марья, не нужна, а в былое времечко твой отец-то, важный барин, у меня, простой мужички, чуть руки не целовал, голубушкой, любой своей звал. Ну что былое вспоминать, что было, то давно давно прошло.
— А любил тебя мой отец? — спросил у матери Цыганов.
— Любил, говорю чуть руки мои не целовал, крепко любил! Из-за той его любви греховной много я горя лютого перенесла, много слёз горючих выплакала, Ох, грешница, великая я грешница! Но меня ты, сынок, не суди!
— Я не судья тебе, матушка.
— Ведь не девкой я с ним спуталась, я была мужняя жена. Мужа своего через ту любовь грешную погубила. Да, да, погубила, погубила.
— А кто у тебя был муж?
— Простой дворовый — тихий был парень, умный, а как меня любил, как голубил, ведь души моей не чаял. Берёг меня, да от князя не сумел сберечь.
— Матушка! Мой отец князь Гарин? — чуть не крикнул молодой человек, прерывая свою мать. Он догадался, о каком князе речь.
— Как? Разве я тебе про то сказала? — испугалась Марья — так звали мать Цыганова.
— Да, да, матушка, ты сейчас сама проговорилась.
— Ну, если проговорилась, что же — отпираться не буду. Да, сынок, твой отец — князь Владимир Иванович Гарин.
— Боже, я сын князя, матушка, матушка, мы счастливые с тобою люди. Захотим — мы богаты; только есть ли у тебя доказательства, что я сын князя?
— Есть, есть! Крест, что у тебя на груди, — подарок князя; вот, посмотри, — видишь? На кресте вырезаны буквы, это значит Владимир и Марья. Ещё хранятся у меня княжеские письма, ведь я грамотная, читать и писать умею. Да чему ты обрадовался, сынок? Про какое богатство говоришь?