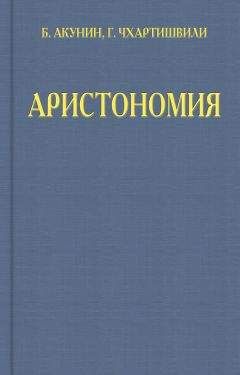Милиционер был молодой, но важный. Ответил не сразу, а попросил предъявить удостоверение. Долго рассматривал студенческий, шевелил губами – видно, был недавней грамотности.
– Гражданку Эйзен Лидию Карловну знаете?
– Да, живем вместе. В общежитии…
«Лидка-то здесь причем?»
– Из окна выкинулась, – оглянувшись вокруг, тихо сказал милиционер. – Пройдемте.
Мирра закричала. Он поморщился.
– Не создавайте, гражданка. Пройдемте. Товарищ следователь велел найти и доставить. Потому – записка непонятного значения.
На Мирру с перекошенным лицом, на представителя власти смотрели – в коридоре, как обычно, торчали прогульщики, кто не пошел на лекцию.
Мирра сорвалась с места, побежала. Сзади топал служивый.
Через Царицынскую, во двор.
У общаги тесно толпились люди.
Кинулась прямо в гущу, стала протискиваться.
Милиционер сзади взял за рукав:
– В подъезд пройдемте, гражданка.
Вырвалась:
– Отцепись ты!
Впереди кто-то с удовольствием, вкусно рассказывал:
– Стоим с Витюхой, курим. Вдруг сзади – шмяк! Поворачиваюсь – мама родная! Лежит. И кровища. Гляньте, сапог забрызгало. А стоял бы на пять шагов туда, раздавила бы, идиотка…
Мирра пробилась вперед. Замерла.
На грязном, затоптанном снегу, в окружении криво вколоченных колышков с веревкой, лежало странно изогнутое тело. Ничком. Платье задралось выше пояса, так что виднелись светло-лиловые трусы – Лидка купила их у спекулянта, была очень довольна нежным цветом.
Две работницы в спецовках и кирзачах – должно быть, с соседнего лампового завода – стояли ближе всех к трупу, у самых колышков.
Одна, конопатая, сказала:
– Ишь, жопа тощая.
Вторая, с плоским, но мясистым лицом, ухмыльнулась:
– У меня б такая жопа была, я б тоже из окна сиганула.
Первая прыснула. Вокруг заржали.
У Мирры и так все подплывало перед глазами, а тут вовсе стемнело. Она молча кинулась вперед и вмазала мордатой по зубам – очень качественно. Хотела достать и конопатую, и достала бы, но сзади обхватили за плечи.
– Прекратить драку! Гражданка Носик, следователь ждет.
– Сейчас… – Мирра говорила с трудом, всё прикидывала, как бы ей достать конопатую.
Та от нее пятилась. Другая, которой вмазано, закрывала руками рожу и выла.
– Пусти… – задыхаясь, сказала Мирра милиционеру. – Не буду… Только платье ей поправлю.
– Не положено. Тут, может, уголовное. Идем-идем.
В маленькой комнатке было тесно. Двое мужчин сидели за столом, еще двое рылись в вещах – не только Лидкиных, но и Мирриных. Но возмущаться и протестовать сил не было. Вся сила будто выплеснулась вместе с ударом в зубы.
– Вот, товарищ Сидюхин, доставил. Гражданка Носик.
Один сидящий – пожилой, с желтыми от табака усами, с четырьмя квадратиками на петлицах – поднял голову.
– А. Мирра – это ты?
– Я.
Внимательно посмотрел. Второй же, писавший на листке, коротко глянул и стал строчить дальше.
– Ты когда гражданку Эйзен последний раз видела?
– Недавно… Час назад.
– Что она делала?
– Ничего… Чай пила… Новости собиралась читать.
Мирра кивнула на газеты.
– Ну-ка. – Следователь протянул какую-то бумажку. – Тебе писано. Переведи на русский язык.
На листке Лидкиным почерком: «Видишь, Мирра. Некрасивые тоже не должны. Прощай».
– Какие некрасивые? Что не должны? Кому не должны?
– Я не знаю… – пролепетала она. Поежилась – из распахнутого окна несло холодом.
– Записка лежала на столе. Рядом две газетные вырезки. Может, они подскажут? Про смерть красного дипкурьера Теодора Нетте и про смерть товарища Рейснер.
– Да, вырезки я видела. Лидка… гражданка Эйзен их еще вчера сделала. Переживала очень.
– Тут еще есть третья. На полу валялась. Сквозняком, наверно, сдуло. Приложили – из сегодняшних «Известий».
Усатый показал на газету, лежавшую последней полосой вверх. В разделе происшествий вырезан маленький прямоугольник.
– Про какую-то проститутку. Что за ребусы? Покойная ее знала?
Так и впился глазами.
А Мирра прочитала третью вырезку и застонала, как от боли.
Судьба, стерва! Добила, дотоптала! Третий раз в одного и того же, подлюка!
– Вы тут, девчоночки, часом проституцией не подрабатываете? – вкрадчиво сказал следователь. – Говори правду, дочка. Мне врать не положено.
– Да пошел ты! Папаша выискался…
Нет, ну бывает такое?! Три снаряда в одну воронку! Три дня подряд! Тут и у человека с крепкими нервами мозги свихнутся.
Не надо было Лидку одну оставлять! Но кто ж знал? Главное – на самой последней странице, мелким шрифтом, а углядела-таки…
– Ну вот что, гражданка Носик. – Следователь перешел на официальный тон. – Не хочешь чистосердечно, будем с тобой разбираться. Поедешь с нами. Сниму с тебя показания по всей форме. У нас и переночуешь. Проверим, нет ли на тебе и на покойнице приводов по проституции. Если ты перед советским законом ни в чем не запачкана, завтра отпустим.
Здесь Мирра не выдержала. Вот зачем это всё сегодня? Зачем?
Разревелась. И по Лидке, и по себе, и от стыда, что в страшную эту минуту она, сука такая, только о бабьем думает. Ну и вообще – обо всем на свете.
(Из клетчатой тетради)
В эволюции общества и человеческого сознания прослеживается одна, на первый взгляд, обескураживающая закономерность: когда религиозное чувство усиливалось, ослабевало значение межличностной привязанности и наоборот – чем меньше в людях было Веры, тем больше Любви.
В античном обществе свободно Любили и свободно рассуждали об этом чувстве, однако Верили (специально пишу с большой буквы, чтобы было понятно, о вере в Кого идет речь) по-язычески: не истово и скорее разумом, чем сердцем. Распространение христианства происходило на фоне кризиса цивилизации, распада устоявшегося порядка вещей, лишений и катастроф. Новое учение, на первом своем этапе весьма пассионарное и искреннее, произвело переворот в морали, в человеческих отношениях, во взглядах на смысл и цель жизни. В европейской и ближневосточной эйкумене установилась настоящая диктатура религиозности, о Любви в этот продолжительный период истории ничего не слышно. Она если вовсе не исчезла, то, кажется, утратила для людей всякую важность. Христианство и ислам очень много говорят о любви и страстно ее проповедуют, но имеют в виду нечто совершенно иное – даже не фылос, а агапе, как называли греки духовно-мистическую тягу к божественному. Этот вид любви был объявлен единственно похвальным, а эрос заклеймен как нечто предосудительное, греховное.
Так продолжалось все «темные века», когда существование человека было скудным и все его силы тратились на выживание. Как я уже писал в исторической главе, возрождение Любви произошло на фоне повышения уровня жизни и культуры в Окситании, самой развитой области тогдашней Европы. И повсюду, где жизнь становилась чуть свободнее, комфортнее, спокойнее, Любовь немедленно поднимала голову. Одновременно с этим начинало падать значение религии, церкви, Веры. И, в общем, понятно почему.
Религиозность изначально порождается страхом, неуверенностью. Когда человек не понимает законов окружающего мира и потому не умеет противостоять опасностям, остается только надеяться на чудо, на высшую силу, которая оборонит и спасет от беды. Чем тяжелее и страшнее жизнь, тем сильнее Вера. Однако смысл прогресса состоит в том, что люди понемногу начинают разбираться в устройстве природы и общества, это придает уверенности и смелости. Ведь на уровне психики одного человека происходит то же самое: кто трясется от страха, тот ни эмоционально, ни физически для Любви не годен.
Церковь была совершенно права, когда относилась к Любви с подозрительностью и враждебностью. В сердце не могут равноправно существовать две любви – одной придется потесниться и уступить первенство. С точки зрения религии, человек, всей душой Любящий другого человека, обкрадывает любовь к Богу. Прекрасная в своей искренности Элоиза очень точно формулирует эту истину в письме к Абеляру: «Во всякую пору моей жизни вплоть до нынешней, видит Бог, я больше боялась обидеть тебя, нежели Его, и старалась угодить тебе больше, чем Ему». И в этом вся суть Любви.
Неслучайно в Библии отступление от единобожия и плотский грех именуются одним и тем же словом «блуд». Это и есть блуд – заблуждение, измена. Но и с позиции Любви погружение в религию – «блуд». Когда Абеляр прекращает переписку с Элоизой, он изменяет ей с Богом.
Агапе и эрос не то чтобы вовсе несовместимы, но сильно мешают друг другу. Именно поэтому католическая церковь настаивает на целибате, а все святые угодники так подчеркнуто асексуальны. Впрочем, то же можно сказать о любом подвижнике, пусть даже и атеисте, но верящем в некую сверхидею, исполняющую для него роль религии – например, в построение земного рая и облагодетельствование человечества. Кто умеет любить всех, не умеет по-настоящему любить никого в отдельности. Верно, разумеется, и обратное: дар большой Любви подразумевает ослабленную способность к филосу.