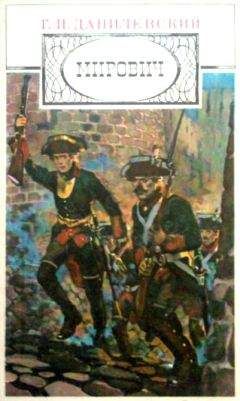Мирович углубился в лес, в обход Петергофа, переполненного и шумевшего войском.
Близился вечер, но было ещё жарко. Пот градом катился с лица Мировича. Ноги путались, вязли в высокой цепкой траве. До него долетали звуки уличной езды, ржание лошадей, крики и песни толпившихся на площадях и у дворца военных команд. Но вот всё стало замолкать. Он отдалился от города. Лесная чаща охватила его тенью и прохладой. Только подорожники да жаворонки заливались на усеянных цветами полянках; дрозды с резким, звонким щёлканьем перелетали под нависшими кустами; пахло сосновой смолой, да солнце наискось, из-под ветвей, освещало толстые мшистые стволы.
Влево проглянула полоска взморья. До посёлка оставалось версты две-три. Мирович завидел его с пригорка, распознал и крайний двор, где бросил пегого. «Скорей, скорей!» – торопил он себя. Но едва он пересёк дорогу, шедшую из Петергофа в Гостилицы, сзади от парка послышались звуки колёс, рессор и переливистое, тонкоголосое, далеко слышное выкрикивание форейтора:
– Па-а-ди!
«Видно, рыдван, – подумал Мирович, – знатный барин какой-нибудь спешит убраться от этой передряги в своё поместье».
Он сошёл с дороги и углубился в ближние деревья.
Снизу, с долины, пыхтя вспотевшим, упаренным восьмериком и врезываясь по ступицы в разрыхлённый серо-глинистый грунт, под хлопанье кнута и понукание возниц, забирая рыси, на дорогу грузно въехала большая, цветом оливковая, четырёхместная, с придворными гербами карета.
Вид кареты был необычный. Зелёные шторки в её раскрытых окнах были опущены. На козлах, на запятках и даже на откинутых подножках стояли с мушкетами гренадёры. По бокам и несколько поодаль, впереди и назади, вперемежку с гусарским конвоем, ехали верхом несколько гвардейских офицеров. Между последними Мирович с удивлением разглядел виденных им не раз, в минувшие дни в ресторанах Дрезденши и Амбахарши, князя Фёдора Барятинского, Баскакова и Пассека. Из-под качнувшейся гардины он распознал в карете и лицо, со шрамом на щеке, Алексея Орлова – «le balafre»[195].
«Что бы это значило? – подумал Мирович, сквозь ветки дерев следя за странным, по рытвинам и обнажённым на взбитой дороге корням удалявшимся кортежем, – Орлов, Барятинский… и Пассек! этот каким образом? Он был арестован! да и все они?.. их ли везут или они кого сопровождают? Притом, куда и какого рода особу?».
Мирович вышел из чащи. Карета и её конвой скрылись. И в то же время из-за дерев, куда они уехали, снова послышался стук колёс. На дороге показалась рогожная кибитка. Сидевший в ней поспешно вылез у поворота к Петергофу, взошёл на бугор и, наставя руку над глазами, о чём-то говорил с кучером. В желтолицем, обрюзглом и безбородом хозяине кибитки Мирович узнал салотопенного купца Селиванова, к которому в марте государь заезжал близ Шлиссельбурга и которого приглашал в Ораниенбаум.
– Видели, видели? – обратился к подошедшему Мировичу Селиванов. – Его, батюшку-то, радельца нашего, повезли…
– Кого повезли?
– Да государя-то, нашего спаса и милостивца.
Мирович вздрогнул.
– Быть не может! – сказал он.
– Йон, ваша милость, йон! – продолжал Селиванов. – Занавесочка-то колыхнулась в ейную сторону… а йон, родной, как есть табе, в уголочку сидит и глядит… Этакое окаянство, обида всему белому свету, смертный смут… Говори же, ваше благородие, каки-таки супостаты?
Мирович сообщил Селиванову о перемене, происшедшей в тот день.
В оловянных, дико устремлённых глазах сектанта изобразилось крайнее смущение и испуг. Он снял шапку, двуперстно перекрестился и задумался, шевеля отвисшими, бледными губами.
– Спаси его Исус господь и помилуй! – сказал он, подтягивая на себе пояс и с мрачной злобой глядя вниз на долину. – Лишились верного спаса, другого, видно, ждать. Разрази, ох, развей прах; а уж все, то ись, все, кажись, как один… объяви он, раделец, надёжа верных рабов, слово только вымолви…
– Могу ли вас просить об одолжении? – произнёс, заторопясь, Мирович.
– Меня-то? Проси, барин. Каки табе дела?
Мирович объяснил, как и зачем попал сюда, и попросил подвезти его за конём, в выселок.
– Hy, ваше благородие, про коня свово лучше позабудь, – сказал Селиванов, – сам говоришь, эки войска тут прошли и сколько было всякого наянства, озорников. Лучше садись, прямо в Питер подвезём. Надо бы в Кронштадт, да и там, чай, сполох… в Галерной у землячка пока что остановимся… Так ли? Только не почтовую, сударь, а возьмём-ка ещё поправей, просёлками… Ох, ох! Отцы святые, белы голуби, угоднички! Исусе сладчайший! Пришли, знать, остатни, последни времена…
Мирович сел в кибитку Селиванова. К ночи они, с остановками, по взморью и в объезд почтового тракта, достигли Петербурга и направились к Галерной гавани, где был дом кожевника, приятеля Селиванова. В то же время в Нарвские ворота началось торжественное обратное вступление войска из петергофского похода. Солдаты обвили шляпы и мушкеты дубовыми ветвями. Музыка не умолкала в течение всего пути. Екатерина на том же белом, в яблоках, запылённом коне, во главе пеших батальонов, вступила в столицу. Колокольный звон сливался с звуками победного марша и с криками бежавшей за войском толпы. Двери церквей всюду были настежь растворены. В их глубине, перед ярко освещёнными алтарями, в полном облачении стояло духовенство, правя молебны за победителей, «утверживших и упрочивших престол».
«Ликуйте, – с лихорадочной, злобно-радостной дрожью думал Мирович, едучи Петербургом и прислушиваясь к крикам и шуму радостного народа, – час пробьёт… недолго ждать – выдвину вам такое, что все опомнятся, ответят, как на Страшном суде… Вы цепляетесь за живое: я поставлю вам фантом, грозного и мстящего мертвеца…»
Перед отъездом из Петергофа Екатерина, ещё двадцать девятого июня, послала Никите Панину указ: без замедления принять в его распоряжение все те секретные и высших политических интересов дела, которыми после Унгерна заведовали Нарышкин и Волков; а генерал-майору Силину быть взамен Жихарева старшим приставом при шлиссельбургском арестанте.
Бумага уже была запечатана и сдана к отсылке. Екатерина велела задержать фельдъегеря и вручила ему ещё другой, особой важности указ на имя Силина, с собственноручной надписью на пакете: «самонужнейшее и безотлагательное».
Столичные происшествия, казалось, не коснулись обитателей мызы Гудовича. О них, по-видимому, забыли.
«Ужели не знают, где принц? – рассуждал пристав Жихарев. – Что мудрёного в таком переполохе и суете!». Он расставил караульных у всех входов и выходов флигеля и, строго подтвердив страже – быть наготове и глядеть в оба, вторые сутки не выходил из комнат. Малейший звук извне заставлял его вздрагивать.
Судьба арестанта не выходила из его головы. Мать Гудовича, с дочерьми, утром, накануне возвращения Екатерины, наведалась в Петербург и навезла таких вестей, что на особое усердие инвалидов Жихарева уж трудно было и рассчитывать. Хозяйки не успокоились, после обеда велели опять запрячь берлин[196] и поехали в город, но к вечеру не возвратились. Дворня по-своему стала судачить, что, видно, постылую хрычевку, с её длиннохвостницами, взяли на съезжую и уж всё им теперь припомнят. На барской кухне и в молодечне слышались грубые, дерзкие возгласы, брань и угрозы бросить мызу и идти туда, куда, мол, все идут.
– Как бы ещё, братцы, не ответить?.. матушка-то ведь наша зорка… гляди, во как взыщет! – ворчал седой, помнивший Первого Петра и его казни повар. Убрав посуду, он скинул фартук и колпак, одел старый зипунишко и, понурившись, вышел за ворота.
– Она, гляди, всех перепишет… – надумал и в свой черёд всем объявил с полатей охотник до сказок и карт, певец и весельчак, выездной конюх, – то ись, кто, значит, опоздал и по какому резонту?.. А каки раньше придут, тем, братцы, и воля навеки нерушимо сказана будет!
Кухонный мальчик подмигнул форейтору, тот водовозу, а этот лакею. Молодёжь гуртом вывела со двора лошадей, будто, как всегда, на водопой, и была такова. Кто постарше, подождали несколько и в одиночку, друг за другом, также шмыгнули за ворота.
Смеркалось. Жихарев прошёлся по саду и, возвратясь во флигель, присел к столу. Ему пришло в голову написать рапорт к генерал-полицеймейстеру, спрося его об инструкциях касательно принца. «Этим хоть напомню о себе», – подумал он и вдруг остановился. До его слуха долетел стук большого подъехавшего экипажа. Кто-то разговаривал у ворот, шёл к крыльцу. «Кто бы это был? – смущённо подумал Жихарев, взглядывая на дверь. – Ужели вспомнили забытого? И к лучшему или к худшему?».
На крыльце послышался звон шпор, торопливые шаги. Впопыхах вбежала бледная, растерянная горничная Гудовичей Гаша.