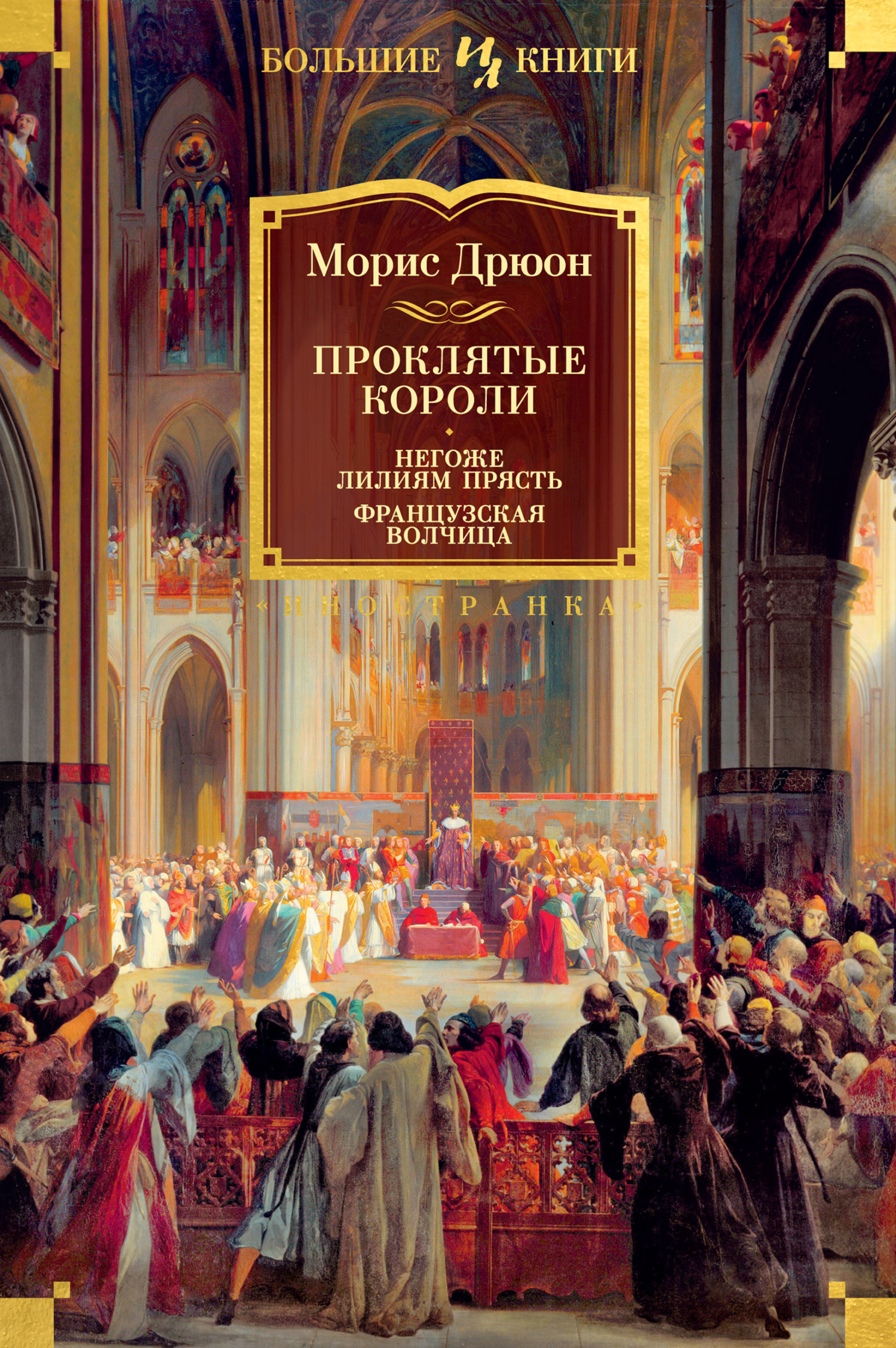проговорил он. – Чудесно, значит, все в порядке. Пускай сам Гуччо за ней приедет, пусть покажет письмо. Тогда все мы останемся в стороне и никто не сумеет нас упрекнуть или затеять с нами тяжбу. Шутка ли, сам папа! Тут никто возразить не посмеет. Через два или три дня, так вы, кажется, сказали? Что ж, пожелаем, чтобы все прошло гладко. И большое вам спасибо за прекрасную ткань; уверен, славная моя супруга сумеет оценить по достоинству ваш подарок. А теперь до свидания, мессир, остаюсь вашим покорным слугой.
Эта тирада совсем подкосила Бувилля, будто он ходил в атаку один против многочисленных врагов.
По дороге из Венсенна Толомеи думал: «Или мне все налгали – а почему лгали, я не знаю, – или старик просто впадает в детство. Что ж, подождем Гуччо».
Но мадам Бувилль не стала ждать. Она тут же велела запрячь мулов в носилки и отправилась в предместье Сен-Марсель. Здесь она заперлась в келье с Мари; убив ее ребенка, она требовала теперь у несчастной отречься от своей любви.
– Вы поклялись хранить тайну на святом Евангелии, – твердила она. – А способны ли вы сохранить тайну от этого человека? Неужели у вас хватит дерзости жить с мужем, – (теперь мадам Бувилль готова была на все, даже признать Гуччо законным мужем Мари), – и обманывать его, уверяя, что он отец чужого ребенка? Скрывать такие вещи от своего супруга – тяжкий грех! А когда наконец восторжествует правда и короля призовут на престол, что вы тогда скажете вашему мужу? Вы честная женщина, дочь благородных родителей, и вы не пойдете на подобную низость.
Все эти вопросы Мари сотни, тысячи раз сама ставила перед собой, каждый час, каждую минуту своего затворнического существования. Ни о чем другом она не думала, и мысли эти чуть не свели ее с ума. И она уже знала наперед свой ответ. Знала, что, очутившись в объятиях Гуччо, не сможет ничего утаить, и вовсе не потому, что это будет «тяжкий грех», как выразилась мадам Бувилль, но потому, что сама любовь не потерпела бы столь жестокой лжи.
– Гуччо меня поймет, Гуччо простит. Я объясню ему, что моей вины тут нет; он поможет мне нести это бремя. Гуччо никому ничего не скажет, мадам, я могу поклясться за него, как я клялась за себя.
– Можно клясться лишь за себя, дитя мое. А тем более нельзя клясться за ломбардца; неужели вы верите, что он будет молчать? Да он первым делом постарается извлечь из этого выгоду.
– Мадам, не оскорбляйте его!
– Вовсе я его не оскорбляю, милочка, но я знаю людей. Вы дали клятву ничего не говорить даже на святой исповеди. На вашем попечении находится король Франции, и мы разрешим вашу клятву, когда придет время. Но не раньше.
– Молю, мадам, возьмите у меня короля и дайте мне свободу.
– Не я вам вручила младенца, на то была воля Божия. Это дар Господень, врученный вам на сохранение. Неужели вы предали бы слугам Иродовым Иисуса Христа, которого вам поручили бы сберечь во время избиения младенцев?.. Это дитя должно жить. Мой супруг обязан иметь вас и дитя под наблюдением, чтобы в любую минуту найти, а как прикажете ему поступить, если вы укатите в Авиньон?
– Я попрошу Гуччо поселиться там, где вы потребуете, уверяю вас, он не проговорится.
– Не проговорится лишь потому, что вы его никогда не увидите!
Их спор, прерывавшийся лишь на время кормления ребенка, длился до самого вечера. Обе женщины бились, как два зверя, захлопнутые одной ловушкой. Но у мадам Бувилль зубы и когти оказались крепче, чем у Мари.
– Что же со мной будет? Неужели вы заточите меня в монастыре до конца моих дней? – стонала Мари.
«С огромным удовольствием заточила бы, – думала мадам Бувилль. – Но ведь твой муженек везет письмо от самого папы…»
– А если семья согласится принять вас обратно? – рискнула она наконец. – Думаю, что мессир Юг сумеет добиться согласия ваших братьев.
Вернуться в Крессе к враждебно настроенной родне, да еще с ребенком на руках, на которого все будут коситься как на плод греховной любви, тогда как нет во всей Франции другого дитяти, столь заслуживающего почета и уважения! Отречься от всего, молчать, стариться с единой мыслью о чудовищно злом роке, о безнадежной гибели любви, которая, казалось, никогда не иссякнет! Все ее мечты безжалостно разбиты.
Мари возмутилась и обрела ту силу, что помогла ей презреть законы человеческие, родную семью, ту силу, что толкнула ее в объятия любимого. Она наотрез отказалась повиноваться мадам Бувилль.
– Я увижусь с Гуччо, я буду ему принадлежать, я буду с ним вместе! – кричала она.
Тут заговорила мадам Бувилль, сопровождая свои слова размеренными ударами сухонького кулачка по ручке кресла.
– Никогда вы не увидите вашего Гуччо, потому что, как только он посмеет приблизиться к монастырю или к другому какому-нибудь месту, куда мы сочтем благоразумным вас поместить, и как только вы заговорите с ним, это будет последняя минута его жизни. Мой супруг, да было бы вам известно, становится грозным, когда речь заходит о спасении короля, и начинает энергично действовать. Если уж вы так настаиваете на встрече с вашим Гуччо, пожалуйста, любуйтесь на него, но запомните, что он будет лежать с кинжалом между лопаток.
Мари бессильно поникла в кресле.
– Довольно и того, что погиб ребенок, – прошептала она, – так неужели еще должен погибнуть отец?
– Это зависит только от вас, – сказала мадам Бувилль.
– Не думала я, что в королевском дворе за полушку убивают людей. Хорош ваш двор, а ведь все государство его уважает. А вам я вот что скажу: я вас ненавижу.
– Вы несправедливы ко мне, Мари. Не скрою, бремя мое тяжко, но я защищаю вас от вас же самой. Садитесь и напишите то, что я вам продиктую.
Мари растерялась, сдалась; чувствуя мучительную боль в висках, почти ослепнув от слез, она с трудом нацарапала несколько фраз. Даже предположить она не могла, что ей придется когда-нибудь писать Гуччо такое письмо. Ее послание мадам Бувилль решила доставить Толомеи, чтобы тот сам вручил его племяннику.
В своем письме Мари сообщала, что стыдится и ужасается совершенному ею греху, что хочет посвятить всю свою жизнь ребенку, зачатому во грехе, что никогда больше не поддастся голосу плоти и презирает того, кто совратил ее с пути истинного. И что запрещает Гуччо пытаться увидеть ее, где бы она ни находилась.
Ей хотелось сделать хотя бы в конце приписку: «Клянусь, никогда я не буду