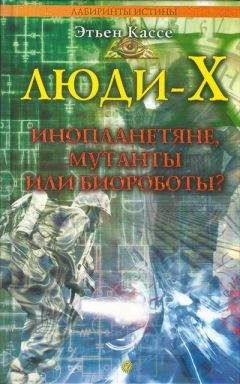— Жена ваша родила двух девочек. Двойняшки. Поздравляем вас.
У Семёна запершило в горле.
— Спасибо, — не сразу и тихим голосом отвечает он и, стоя у переборки, долго с тоской глядит в окно.
Черная телефонная трубка тоненько пищит у него в руке.
Его я увидел сразу за поворотом дороги. Старик сидел на большом плоском валуне у обочины. Короткая седая бородка дугой окидывала от виска до виска его загорелое широкоскулое лицо. Суковатый, до блеска вытертый руками батог и кепка, с выгоревшей на солнце пуговкой, лежали рядом на сером камне.
Лицо его показалось мне знакомым.
— Здравствуйте, — приветствовал я старика.
— Здорово, как не шутишь, — громко и весело ответил тот. — Куда путь держишь?
Я остановился.
— В Кузьминки.
Из-под срослых бровей пристально глянули на меня небольшие с прищуром глаза.
— Уж не Митрия ли Боброва сынок будешь?
— Да, его.
— Стало быть, Натолей Митрич. Ну-ну, здорово, — он протянул мне крепкую, в узловатых венах шершавую руку. — По природе тебя узнал. Вашу бобровскую природу издалека заметно. А я Иван Харитонович буду, Кудрявцев. Может, помнишь?
Я сказал, что узнал его, что помню, как проходил он к нам, когда еще был жив мой отец.
— Вот-вот. Садись, — Харитонович подвинулся, освобождая место рядом с собой. — Покурим, если не к спеху, да уж и потрясемся дальше.
Видно было, что он рад случайному попутчику на этой длинной и безлюдной сейчас дороге.
Присев рядом, я предложил Харитоновичу сигарету с фильтром. Он отказался.
— Я паря, это курево не уважаю. Не табак, один кашель. К папиросам вот привык, — он достал из кармана пачку «Севера».
— А я давно, это тебя поджидаю, понимаешь. Авось, думаю, попутчик мне до повертки будет. На побывку, али как? — спросил Харитоныч.
— Да вот еду к маме в отпуск.
— Это дело… А вот наш Генашка нынче не сулится. Пишет, что на юг с женой поедут.
Старик вдавил каблуком окурок в землю.
— Тебя Захаровна-то поди ждет? Скушно ей одной-то.
— Ждет. Я ей телеграмму дал.
— Ну, тогда потопали.
Харитоныч встал, надел кепку и, опираясь на свою самодельную клюшку, прихрамывая, пошел по дороге.
В этот осенний серый день было как-то непривычно тихо и неуютно и на этом проселке, размокшем от дождя, и в безлистом лесу вдоль дороги и на давно уже прибранных полях. Я сказал об этом Харитонычу.
— Пустота, — ответил он. — Ни зверя, ни птицы. Пора такая, да и повывелось много.
— Браконьеры?
— Какое. Привыкли сейчас все на браконьеров валить. У нас охотников-то здесь на всю округу шиш да маленько. Тут другое браконьерство. Вон, смотри.
Харитоныч показал на край поля, мимо которого мы проходили. Там у зеленой озими желтела большая куча удобрения.
— Наверняка с весны лежит. А сколько куч таких по всем-то полям нашим. Тут не только заяц или другая мелкота, а и слон подохнет. Да это еще что. Какой-то дурак придумал удобрения с самолетов распылять. Это на наши-то поля! Вот и летит отрава облаком на лес и на реку. И нет тебе ни птиц, ни зверей, ни рыбы.
— Так ведь надо говорить об этом. В газете написать бы.
Харитоныч усмехнулся.
— И говорят и пишут, да что толку-то. Это все равно, что в лесу кричать: одного себя услышишь. Не говорить надо, а бить.
Харитоныч шел медленно, волоча правую ногу и я спросил, что заставило его идти в город по такой дороге, да еще с больной ногой.
— Ходил в собес насчет пенсии хлопотать.
— Ну и как?
— А никак. Ничего не вышло.
— Почему?
— Документы требуются, а у меня их нет.
— Утеряны?
— Да нет, Видишь ли какое дело. В самом конце войны, когда мы уже по Германии шли, контузило меня, да вдобавок в ногу осколком садануло. Сначала я в медсанбате лежал, а потом в полевом госпитале. Как полегче-то стало, я оттуда и сбежал в свой минометный батальон. От ребят не хотелось отставать: всю войну вместе прошли. Сбежал я из госпиталя, конечно, без всяких там документов. Тогда это было обычным делом. Разве думал, что потом придется по собесам ходить. До бумаг ли было. Но я и сейчас не жалею о том. Берлина, правда, мы не брали, но по его улицам прошлись… Ну и вот, пока сила была — работал. Молоко на сырзавод возил, а теперь несмогать стал. Года не те, да и нога не дает. Сперва она уставала, а потом в подъеме перестала слушаться и я опять раненый стал. А в райсобесе документ о ранении нужен. Там говорят, мол, если бы у вас ступня оторвана была, тогда бы другое дело. Будто я виноват, что ее тогда не оторвало. В общем, как говорится, кому шиш, а мне всегда два.
Харитоныч горько усмехнулся, помолчал, обходя лужицу, и заговорил снова, но уже о другом.
— А батька твоего Митрия Ивановича я хорошо знал. Одногодки мы с ним. Гуляли в парнях-то вместе. Веселый был мужик, да… Гармонист. Они к нам в Романцево все на беседы ходили. Соберет Митрий, бывало, ватагу молодцов, а сам впереди с гармонью. Так издали слышим, что кузьминские ребята к нам на вечерину идут. Раньше клуба ведь не было. Соберемся в какой-нибудь избе, лампу к потолку подвесим и гуляем до утра. Песни поем да пляшем. Он, Митрий, и Захаровну-то от нас взял. Тоже в девках-то красавица была, востроглазая. Тихие ей не по нраву были. Вот Митрий и увез ее из Романцева. Только, помню, за здорово живешь мы ее не отдали. Опосля венчания повез он Захаровну в Кузьминки, а мы двои саней поперек дороги и поставили: откупайся и проезжай. Таков уж обычай. Две четверти тогда он нам поставил… Да, так все оно и было… Ну, вот я и притопал, — неожиданно закончил Харитоныч и показал на узкую дорожку, уходящую в глубину леса. — Наша повертка.
— Ну и как же вы теперь? — спросил я.
— Что как? Это ты насчет пенсии что ли?
— Да.
— Так уж боле не пойду. Хватит. По комиссиям таскаться буду, так и вторую ногу доведу. Теперь уж своих годов ждать надо. Через два года я на пенсию по старости пойду, если доживу. Глафира моя пенсию получает. Ничего, выдюжим как-нибудь. Сын поможет. На него у нас с маткой вся надежа. Ну, прощевай, — Харитоныч подал мне руку. — Покудова. Будь здоров.
Он пошел по тропинке, потом обернулся.
— Слышь-ко, Натолей. Захаровне-то поклон передай. Скажи, мол, Харитоныч кланяться велел.
— Спасибо, обязательно передам.
— Вот-вот.
Старик повернулся, неторопливо зашагал, опираясь на суковатый батог и вскоре скрылся в молодом густом ельнике.
До моих Кузьминок осталось километра два.
Авдотья доживала последние дни. Это знали все, только не говорили ей. Но и сама догадывалась — трудно думать иначе на девятом десятке лет, да при таком плохом здоровье, как в это лето.
Старуха почти не вставала с постели, а если и случалось такое, то передвигалась с помощью дочки Катерины или шла сама медленно, осторожно, держась руками за переборки. Сильно болело в груди, и каждый день фельдшер из медпункта Галина Сергеевна, приходя к бабке, делала ей обезбаливающие уколы.
В хорошую погоду Авдотью выносили на улицу и укладывали на раскладушке под старой черемухой, посаженной в тот далекий, но памятный год, когда ее, молодую Дуняшу, вводил хозяйкой в новую избу красивый и сильный Степан-кузнец.
Дом стоял на невысоком берегу Кокшеньги у старой мельницы, которая давно не работала и тоже доживала свой век. Жила Авдотья с Екатериной вдвоем. Но каждое лето к ним приезжал в отпуск из Москвы младший сын Катерины Михаил с женой и маленьким Бориской. Нынче они опять гостили здесь.
Был нежаркий день начала июня, когда старая Авдотья заняла свое место под черемухой. Михаил еще рано утром ушел с удочкой вниз по Кокшеньге. Катерина со снохой Людмилой хлопотала в огороде. Только трехлетний Бориска, вообразив себя шофером, играл с игрушечным самосвалом. О многом за эти дни передумала Авдотья, многое вспомнила. Рада была она, что ее долгая жизнь прожита не зря. Все дети давным-давно выросли, и не ее вина, что не все они сейчас рядом с ней. Счастлива и от того, что дожила до правнуков — третьего их со Степаном колена: Шурка… Танюшка… Бориска…
«Бориска?…» Авдотья повернула голову и посмотрела туда, где играл маленький правнук. Но там его не было. На песке только самосвал лежал вверх колесами. Авдотья посмотрела в другую сторону, но и там не увидела Бориски. Она забеспокоилась, приподнялась с подушек и ужаснулась: малыш играл в воде.
Она знала: у самого берега мелко, но в десяти шагах был глубокий обрыв — «илькина ямка» как исстари называли это место.
— Катерина, Людмила. Бориска-то в воде. Не утонул бы…
Никто не ответил.
— Люди… — изо всех сил закричала Авдотья. Но это ей только казалось, что она кричала. Сдавленный хриплый голос не слышал никто.