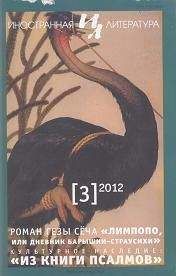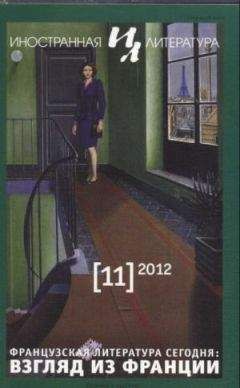«Я покорно следовал за ним до самого конца. Верней, он забрал меня с собою, как свое добро, и та сила, что все время гнала его вперед, дала мне роздых от той силы, что привела к нему. А может быть, просто он бежал от самого себя. Про него много лгут, но правды не знает теперь никто. Говорят, царю Иегу[16] и Навуходоносору он был подобен; ‘бич Божий’ — так называли его народы; и это возможно; никто из них никогда не видел его большую голову с выраженьем насупленного ребенка; крепок в кости, губы цвета запекшейся крови, красен лицом, борода же черна и мешки под глазами; во всем его облике было что-то дремуче-ночное, и меньше всего от него ожидать можно было печали, а уж к музыке расположения и подавно. Он насмехался, казалось, над всем и над всеми, но, как знать, быть может, всех больше — над самим собою. И то правда, что в ответ посланникам бледнолицего Гонория, дрожавшего от страха, но грозившего ему сражением с прекрасно обученными бесчисленными легионами, носящими славные имена Юпитера, Геркулеса, батавов [17], — как будто все эти старые тела, закованные в латы, изрубленные в куски, втоптанные в грязь со времен Траяна, из земли германской могли подняться, восстать, воскреснуть и римским воинам прийти на помощь, мрачные, зловещие, — на угрозы Гонория он отвечал, что от души желал бы, чтобы римские легионы численностью своей были поболе, потому как известно: чем гуще трава, тем легче косьба, а он косарь на все племена, на все времена. Но мало кто знал, как любил он мерный посвист косы утром весенним, как незатейливый сельский труд близок был сердцу его и наполнял тоской душу его одинокую, точно он был беглым рабом иль разбойником с дальних дорог; часто меня он просил, чтобы лира моя спела ему про тяжесть зрелых хлебов, про жатву, про жаркий и душный полуденный сон в тени нагретых солнцем душистых стогов, про то, как в кудрявых рощах, отдохнув от забот, сельские боги, воспрянув, встают ото сна.
Рассказывали, что, когда он неодолимой волной шел на ослабевший, готовый сдаться Рим, где-то в районе Римини навстречу ему вышел монах-отшельник. Воздев крест и выкрикивая издалека бессвязные фразы и слова увещевания, именем Пресвятой Троицы заклинал он царя остановиться и предавал анафеме на все четыре стороны света, призывая в помощники Отца, и Сына, и Святого духа, и скреплял все сказанное громогласным „аминь“; и тогда Аларих вышел перед своими знаменами и пошел к этому маленькому грязному человеку, изрыгающему проклятия, и как ни в чем не бывало взял святого под руку и, смеясь, стал объяснять, что он и рад бы не идти дальше, но это не зависит от его воли, что неведомая сверхъестественная сила толкает его к Риму, ногами пихает в эту бездну, насильно сажает его на трон и впивается ему в плечи, как злая гарпия. Именно сила, а не чье-то веское слово. В этой силе не было ничего, похожего на музыку, на хор ангелов, звучащий откуда-то с небес, с плывущих мимо облаков; оркестр, к которому он всю жизнь прислушивался, играл мелодию, которая всегда от него ускользала, летела вдаль, за тополя, за реку, а потом еще дальше, за холмы и долы, и останавливалась только над полыхающим храмом, трепеща в языках бушующего пламени, в криках о помощи, — но вот уже снова она устремлялась за дымом и влекла его за собою: туда, где Рим. И когда его воины, распевая псалмы и рубя направо-налево, взяли наконец Рим во имя Троицы (но совсем другой, нежели Троица отшельника), когда под разрушенными церковными алтарями и расплавленными дароносицами, под шелковыми накидками патрицианок, укрывшими спины лошадей, под мраморными сводами залитых мочой дворцов Аларих пытался услышать путеводную мелодию и напрягал слух, до него доносились лишь вопли насилуемых дев, рыдания матрон и стенания тех, кто еще оставался в живых; он понял тогда, что мелодия, которую он тщится услышать, скрывается не в пурпуре, не в новом высоком титуле ‘Верховный главнокомандующий войск Западной империи’, который он себе присвоил, и не в холодном злате империи, принадлежавшем теперь ему; сотни раз хриплый рог звал эту мелодию прозвучать над побежденным Капитолием, но в ответ зазвенела какая-то песенка и полетела над Форумом, над пепелищем, вылетела за городские ворота и устремилась на юг; Аларих последовал за ней. Не страсть к золоту влекла его за собой и не жажда крови, и не стремление властвовать над всеми; то был едва различимый напев, неуловимый и эфемерный, летящий под облаками и перестающий дразнить только с приходом смерти. Вот чего ему не хватало, что толкало его вперед и составляло его мир. И для этой ненасытной прорвы я играл на лире».
Солнце почти что село; в дальнем углу атриума последний блик света играл еще на камнях, в луче танцевали пылинки, едва различимые для глаз, не имеющие названия, обреченные на исчезновение, как, возможно, и песенка Алариха. Я сидел около имплювия и чувствовал спиной свежесть воды; я тоже стал пить вино, разбавляя его водой, он же пил его, не разбавив. Но не вино развязало ему язык: в имени Алариха крылась для него особая магия, особая музыка; он о себе не говорил с таким волнением, с каким вспоминал своего повелителя, и в голосе его звучали восхищение и неодолимый гнев; он хватался за голову двумя руками, сдерживая что-то, что рвалось наружу, но губы его были быстрее, неосторожней и с легкостью выбалтывали сокровенные тайны. По седой бороде текло вино; иногда он замолкал и смотрел на меня, сам изумляясь тому, что он такое знает и что каким-то чудом вырвалось из его уст, перед невесть откуда взявшимся декурионом[18], почти ребенком, которого он едва знает, пусть даже в детстве этот юнец боготворил образ Алариха. Мальчишка-прислужник с заячьей губой — не тот, кудрявый, а его напарник — кривлялся что есть мочи за спиной старика, пытаясь повторить «Аларих, Аларих», но слово давалось ему с трудом по причине его физического ущерба и оттого, что наречье его не знало подобных созвучий: выходившее из его уст напоминало скорее гортанный крик нелепой, упрямой птицы. Старик поднялся тяжело и устало и прогнал его жестом, как гонят собаку. Мальчишка исчез в зарослях вьюнка, и неузнаваемое имя готского царя еще долго звучало в глубинах дома.
«То была битва, — старик продолжал. — Меня он вызывал по своей прихоти и так же удалял, когда во мне не нуждался; я был для него диковинной разновидностью какой-то неведомой музыки, звучащей, где ей заблагорассудится, неизбежным и недостаточным ее отблеском, тусклым масляным светильником, теплящимся в ночи, в то время как его мятущаяся натура не признавала иного светила, кроме солнца. Только к солнцу он был устремлен, только этот жар мог его успокоить; от меня он требовал солнца, хотя знал прекрасно, что из рукава я его не достану, но зато мое маленькое пламя горело ярко и чисто, поднимаясь с каждым днем все выше, и каким бы несовершенным оно ни было, я вкладывал в него всего себя, все, что меня переполняло. Я сам, моя песнь, моя жизнь были для него факелом, он снисходительно наблюдал, как я горю и сгораю; всякий раз он благодарил меня учтиво и терпеливо — так с осторожностью благодарят тех, кто не справился с задачей, но не с такой задачей, с коей справиться возможно, а с такой, какая никому не под силу: как если бы он приказал, чтоб на коней навьючили бревна или поставили его шатер на размытой глине, и его не удивил бы плачевный итог, и он отблагодарил бы старателей, несмотря на сломанные лошадиные спины, на шатер, смытый водою, потому что работники сделали что могли, а он — царь и лишь перед собой в ответе. Но случалось, солнце готово было подняться, и тихая песенка Алариха, казалось, вот-вот зазвучит под моими пальцами — и тогда я чувствовал себя счастливым, но не потому, что достиг чего-то, а оттого что силюсь чего-то достичь и есть к чему стремиться. Возможно, так и Сын, в отчаянье, оттого что он лишь отражение света, но к источнику этого света исполненный любви, тщетно силится сиять подобно Отцу и быть хоть сколько-нибудь его достойным, и эта заранее проигранная битва — его единственный шанс. И тогда сквозь сияние креста, терний и крови, раздробленных костей, сквозь бред удушья он вдруг смеется и думает, что это он сияет, это он царит над миром, подобно золотому гвоздю, вбитому в стену; он, а не солнце, лучами жгущее затылок, разрывающее рот, слепящее глаза». Меж тем наступила ночь; ветер приносил крики чаек; какая-то безумная птица, а может, мальчишка-прислужник, выкрикивала три слога, укрывшись в цветущей роще.
Старик позвал кудрявого мальчишку, который лениво подошел, босыми шаркая ступнями по пыльным плитам; велел нести еще вина и что-нибудь поесть. По-прежнему с ленивым безразличием, как будто исполняя порученье, негожее для статуса его, кудрявый раб принес чуть-чуть оливок, бобов и сыра, и большой кувшин вина. Потом он занял место рядом с нами, и мы за трапезу взялись все трое. Другой мальчишка, с заячьей губой, из тени вышел тихо и украдкой к нам подошел, и тоже сел на плиты, и начал с шумом косточки плевать в имплювий, где подрагивали звезды. Так мы сидели вчетвером, во тьме не различая лиц, хватая с жадностью еду и быстро осушая чаши, как все едят, когда темно; иль как живут — на ощупь, торопливо. Вдруг ссора вспыхнула меж двух мальчишек, уже изрядно захмелевших; они сквозь зубы начали друг друга обзывать, потом вскочили разом и исчезли, топча цветы и сыпля наугад удары, в меандрах комнат. Деревянная плошка, перевернутая ими впопыхах, долго стучала по плитам, как опрокинувшийся волчок иль как упрямый рот, твердящий всё слова одни и те же, одну и ту же тупую фразу, скороговорку, все слабее, тише, пока его не одолеет сон. Старик есть перестал, но я услышал, как он налил себе еще вина; я угадывал впотьмах, как левой рукой он сжимает чашу, а правой, не способной больше помочь утолить жажду, годящейся лишь касаться чего-то ненужного, бесполезного, давнишнего, он поглаживает нагрудный крест Алариха. Внезапно он снова начал говорить, с горячностью, как будто хотел покончить с чем-то: «Потом он умер. Но прежде песенка его пролетела над Лацием, таща за собой нескончаемый караван, который царская воля подняла с места и влечет за собой, в котором смешалось все: повозки, священные олени, епископы со своими псалмами, призывы хриплого рога, гул перемешавшихся языков, непрекращающиеся раздоры между наемниками — аланами, гуннами, германцами — вся Скифия снялась с места и вопреки своей воле, как река, отведенная в сторону, строптивая, но покорившаяся, хлынула за могучей фигурой в шубе, прислушивающейся к неуловимому. Песенка летела над Лацием и Кампанией, ненадолго повисла над Неаполем, Пестумом и Капуей, затем, не ведая жалости, потянула царя к югу, — туда, где мы теперь, — вынуждая его совершать форсированные марши, и, наконец, довела до Сицилии, где он надеялся беглянку поймать, прижать ее к сердцу и, быть может, отдохнуть от походов в ее широко распростертых материнских объятиях. Сицилия: он думал, что там ангелы сжалятся над ним, и остановятся, и спустятся к нему по огромным шелковым лестницам, перекинув арфы через плечо, распрастав шумные крылья, и из их златых уст польются благие для слуха псалмы. Сицилия, где, могло сбыться то, чего он желал: жена, другой музыкант, высокий титул, успокоение, возможно, сын, которого он так и не дождался. Когда мы прибыли в Луканию, им овладело беспокойство; дни напролет мы шли через леса, без передышек и без остановок, а вечером готовились наутро вновь выступить в поход; в палатке он редко отдыхал, а чаще попросту валился на траву всей царственной своей фигурой, и я ему играл. Благорасположение его ко мне столь было велико, что, казалось, возьми я вместо систра простые сучья иль натяни веревку меж бычьими рогами, чтоб лиру заменить, он бы и это принял благосклонно. Но я играл день ото дня все лучше. В Лукании меж тем была весна; холмы и горы дубовыми кудрявились лесами, как в Галлии вблизи Отёна. Движенье нашей армии срывало с деревьев покрывало листьев, гнуло цветущие жасминовые ветви, сбивая с них утреннюю росу; пышная зелень тешила глаз, а под ногами ковром стелился мягкий мох; в благоговенье мы шли под девственными сводами, чувствуя себя избранниками судьбы, призванными увидеть эту красоту; как вдруг однажды утром олени, завидев меж деревьями просвет, в него нырнули, зависли на мгновенье и исчезли; и вслед за ними полетела колдовская мелодия, увлекая за собой вождя воинственных племен. Ребенком будучи, Аларих ее впервые услыхал в чащобах Скифии, похожих на кущи здешних мест; порою в диких зарослях дерев распахивались неожиданно пространства, где в глубине вставали лесные божества — то воины, то музыканты, а иногда те и другие вместе, — и воздух наполнялся пеньем птиц; те божества меняли облик свой, порою были они светом, играющим меж листьев, другой раз обращались в темную листву тенистых уголков; когда ж испуганный ребенок к ним приближался, распахивая широко глаза, раздвинув ветки исцарапанными в кровь руками, готовясь увидеть на грубо вытесанном троне величественную и страшную фигуру, то взору открывался лишь засохший ствол, могучий и корявый, увенчанный плющом, и больше ничего. Царь готов вздрагивал, как в детстве, хотел бежать и снова шел вперед, и торжествующий его поход на бегство был похож. Но бегство ли, триумф ли — конца не миновать. В Лукании, во глубине лесов, глухие есть болота, где гниют поваленные деревья, утопающие в зловонной трясине; там безобидные с виду комары берут у вас капельку крови, а взамен дают смерть. Эти крошечные твари вкусили густой и горячей крови Верховного главнокомандующего войск Западной империи, и колосс оказался повержен. Так, во всяком случае, говорят. Но возможно, он просто не захотел идти дальше. Сицилия… зачем?»