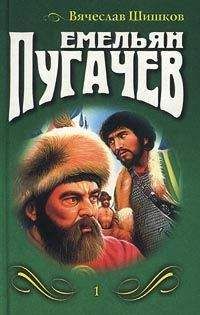— Жарко… А ен все лезет да лезет. Наших много полегло, к лесу подаваться стали, а он знай лезет, знай лезет… Распорядок добрый у него, а у нас порядку ни синь-пороху. Только генерал Лопухин за всех орудует…
Генерал-аншеф В. А. Лопухин, видя, как обессилевшие солдаты его дивизии шаг за шагом стали отходить назад, то скакал на коне перед отступавшими, то, бросив раненую лошадь, бежал по рядам войск, чуть не плача, умолял:
— Братцы, ребятушки… Стойте, не рушьте фрунта! За честь России!
Братцы, за мной!.. — Изнемогший, он сам истекал кровью, перебитая рука болталась, в сапоге жмыхала кровь.
Летали, рвались неприятельские бомбы, стегала картечь, пули с визгом вырывали обреченных. Мужественные гренадеры и прочие потрепанные неприятелем полки все еще держались, как непреоборимая стена.
Однако от минуты к минуте русскому фронту становилось тяжелей. Вот уже два часа отстреливались от ретивого врага, но были на исходе порох и свинец. Некоторые смельчаки с отчаянием бросались вперед, выхватывали из сумки убитого противника порох, патроны и посылали во врага его же пули.
Иные, раненые, окровавленные, прижавшись спиной к дереву, бессильно оборонялись штыками, били врага прикладами. Иные, в припадке безумия, остервенело кидались в толпу неприятеля, мысля поразить их всех, и, растерзанные, гибли.
Наши ряды сильно поредели, офицеры побиты и поранены, фронт дрогнул, круто подался вспять, ближе к лесу. Неприятель, заметив эту ретираду, с удвоенным ожесточением бросился на отступавших.
Завязался дьявольский рукопашный бой.
Того, кто обессилел, кололи, топтали, как падаль, резали, душили.
Русских осталось немного; неприятель подавлял числом и натиском свежих сил. Изнемогающий генерал Лопухин поощрял своих. Кричал безумным голосом:
— Вперед! Коли! Коли!..
Вот его схватили и, залитого кровью, волокли по земле в полон. Трое наших гренадеров, забыв, что сами погибали, разъяренными волками бросились выручать своего генерала и, уже мертвого, растерзанного, перетащили на свою сторону.
Вся опушка леса оглашалась воплем, стоном, криками убиваемых. Кровь текла ручьями. Прижатые к лесу, богатыри-гренадеры все еще продолжали обороняться с яростью. Но враг уже врезался в обоз и победоносно бежал дальше, в самый лагерь. Полное поражение русских было очевидно. Враг торжествовал.
8
И вдруг:
— Идут!.. Наши идут… Держись, ребята!!! — прозвенел чей-то резкий, как медный звук трубы, голос. Это орал что есть силы Пугачев. Он гикнул:
— Р-рубай, так и так!.. Рубай!!! — выхватил саблю и врезался в ряды противника.
Из лесу вымахнули четыре всадника. Впереди на вороном скакуне Румянцев. За ним рота за ротой выбегали из гущи непролазного леса солдаты 3-го Гренадерского и Новгородского полков.
Они быстро — бегом, бегом — строились в боевой порядок. Пред их фронтом, гневный, проскакал Румянцев.
— Ребята, осмотрись! — командовал он. — Целься верней! Залп!
С треском ударило несколько тысяч еще холодных, не закопченных порохом ружей.
— Залп!!!
И вновь убийственный залп.
— Довольно, — приказал Румянцев. Его сабля сверкнула на солнце. — Ребята, в штыки!!!
И с оглушающим ревом «ура, ура!» несколько тысяч бодрых солдат ринулись в бой. За ними, забыв усталость, бросились измученные гренадерские полки, Московский, Рязанский, и остатки дивизии Лопухина.
Крепкий фронт неприятеля на протяжении двух верст был опрокинут.
Пруссаки пробовали сопротивляться, стреляли, оборонялись штыками, но русские, не останавливаясь, стремительно перли вперед, сметая все на своем пути.
Враг побежал.
— Валяй, валяй, валяй! С нами бог! — носился на грузном коне в тылу наших войск грузный Апраксин. Его так растрясло, он так был взволнован и нервно раздавлен событиями, что больше не в силах держаться в седле. С адъютантом и взводом гусаров он отъехал в самое безопасное место, повалился в холодок и, раскинув руки и ноги, пыхтел, как морж на льдине.
Сражением руководили теперь генералы Румянцев и Фермор. Пушки неприятеля, хотя и не особенно метко, все же тревожили наших. Но с правого фланга уже спешили на быстроногих конях чугуевцы — в атаку на батареи врага.
С левого фланга скакали донцы, за ними — полтысячи полуголых калмыков: они спустили по пояс красные суконные бешметы и, ощетинив пики, с визгом мчались колоть и топтать утекавших пруссаков.
Пугачев, давно отбившись от своих, работал то с гусарами, то с пехотой, колол и рубил, счастливо спасаясь от смерти.
Горячий генерал-майор Петр Панин, увлеченный удачным исходом сражения, ускакал далеко вперед, вслед за гусарами. Тут было жарко.
Неприятель на это место двинул из-за леса остатки резервов. Тут шел ожесточенный бой, последняя ставка неприятеля. Завязалась огневая перестрелка. Пугачев палил из винтовки.
Вдруг видит он: на левом фланге отряда конь Панина с разбегу упал на колени, Панин перелетел через конскую шею; конь, прошитый вражьими пулями, перевернулся на бок, взлягнул ногами, затих. К Панину с криком «Эге!
Генерал, генерал!» стремительно бежало с десяток пруссаков. Пугачев ударил плетью коня, что есть силы подскакал к генералу, спрыгнул:
— Садись враз, — и подсобил белому от страха и потерявшему силы Панину залезть в седло.
— А ты как же?
— Не сумлевайтесь, у меня ноги волчьи, утеку! — и Пугачев ударил коня ладонью по холке.
— Спасибо, казак! — и Панин пришпорил коня.
Над Эггерсдорфским полем, от леса до леса, висела пылища и желто-сизый дым. Горели деревни.
Баталия кончилась. Почва подмокла от конской и человеческой крови.
Было 3 часа дня 19 августа 1757 года.
Панин долго допытывался потом и не мог отыскать казака, который даровал ему жизнь на поле сражения. Он хотел оказать казаку-герою высокую милость.
Чрез семнадцать лет, и тоже на поле брани, но при других обстоятельствах, судьба вновь столкнет лицом к лицу графа Петра Панина и донского казака Емельяна Пугачева — мужицкого царя. Казак узнает графа и не подаст о том виду. Граф не узнает казака, но барской рукой отблагодарит его за спасение от смерти — громкой, на всю Россию, пощечиной. Сердце казака обольется тогда кипучей кровью и желчью.
Когда все стало приходить в порядок, казак Пугачев держал ответ пред атаманом Денисовым.
— Где твой конь?
— Убили.
— Ты мой ординарец… Куда ты, песий сын, пропал?
— Воевал.
— Где мой рысак Пегаш? Он выдан тебе под присмотр.
— Я воевал… Я пруссаков бил. За всем не усмотришь. Сбежал, должно, ваш конь.
Полковник Илья Денисов, суровый службист, кликнул двух старых преданных ему казаков и приказал им: ординарца Емельяна Пугачева за его тяжкие преступления по службе выдрать нещадно плетью.
К Пугачеву тотчас же подошли два пожилых казака.
— А ну-ка, молодчик, спускай портки, — сказал сквозь зубы рыжебородый, с плеткой в руке, детина.
Пугачев, тяжело дыша, выжидательно уставился в усатое лицо полковника Денисова, как бы вопрошая мрачного начальника — шутит он или взаправду действует?
— Ну! Вали его на землю, — приказал Денисов.
— Ваше высокоблагородие, — взмолился Пугачев. — За что же это? Ведь я по-честному воевал. А ваш Пегаш…
— Молчать!
— Пегаш ваш найдется, вашескородие… Да я вам рысака такого добуду, что…
— Молчать, безрогая скотина!.. Хуже будет.
Пугачева схватили, брякнули на землю.
— Не позорьте, пощадите, вашескородие… Заслужу! — закричал Пугачев истошно.
Поверженный вниз лицом, он умолк, взглянул на притихших, хмурых зевак вокруг, зажмурился, стиснул зубы и скрюченными пальцами вцепился в пахучую полынь-траву.
Экзекуция началась, но, как ни усердствовал рыжебородый, Пугачев терпел: ни стона, ни вздоха, только скрипел зубами.
— Довольно! — крикнул атаман Денисов.
Емельян встал, с трудом натянул рубаху, его из стороны в сторону покачивало. Он выплюнул набившуюся в рот землю со стебельком полыни и стоял против атамана, вперив взор ему под ноги.
— Можешь идти, Пугачев, — сказал атаман. — Другой раз помни…
Пугачев нога за ногу пошел прочь. Да, он будет помнить… Ему век не забыть этой награды за боевой труд его.
Спина болезненно ныла, словно обваренная кипятком, сквозь рубаху пятнами проступала кровь.
— Больно, Омеля? — сочувственно спрашивали провожавшие его товарищи.
Вместо ответа Емельян так взглянул на них, что люди прикусили языки.
А через день-другой Пугачев носился среди казаков как ни в чем не бывало. Разве только стал он менее разговорчив, а уж если принимался «точить лясы», то тут ему — никто не перечь. Со старшими по войску он приметно играл надвое: поддакивая и соглашаясь, он вместе с тем таил в глазах бесшабашную ухмылку, точно говоря про себя: «Вот он я, попробуй-ка ухватить меня».
И тот же атаман Денисов, приглядываясь к Емельяну, говорил о нем не иначе как о «превеликом бестии».