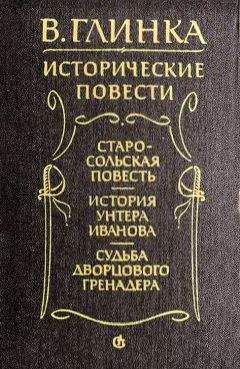Коллекция располагалась в пристройке, которую для нее специально возвели и оборудовали. Заглушая тоску по сыну, графиня тщательно устраивала свой музей. Теперь нам предстояло подготовить возвращение в мир того, что старая собирательница хотела сделать предметом своего единоличного любования.
Директор дошел с нами до металлической двери, взломал сургучную печать, отомкнул замок, толкнул плечом тяжелую створку, заглянул за нее и ушел.
Перед нами был полутемный зал метров в сто. Окна замыкались решетчатыми ставнями. По стене тянулись толстые стекла глубоких шкафов. За ними, перемежая темные и яркие пятна, висели какие-то одежды. Перпендикулярно шкафам стояли горизонтальные витрины под чехлами. В проходах до десятка ящиков и сундуков с прикрытыми крышками. Такие же, должно быть пустые, стояли близ входа один на другом.
Пока мы с Матюшкой осматривались, Яков Александрович уверенно прошел в дальний угол и вытащил из единственного деревянного шкафа толстую книгу и связку ключей с костяными бирками.
— Приступим, — сказал он не без торжественности.
Поверка коллекции оказалась делом несложным. По каталогам читали описание предмета, искали подходящий в шкафах и витринах, сверяли номер и, удостоверившись в тождественности, укладывали в ящик. Отметив в каталоге, отправлялись искать новый. Нумерация была в порядке, ключи открывали замки — все шло как по маслу.
Конечно, поначалу всему поучал нас Яков Александрович. Нам с Матюшкой слова: «кика», «гречушник», «рефядь», «шугай», «лестовка»— были совсем малопонятны, но мы внимательно слушали объяснения старика, который с любовью поворачивал, встряхивал и поглаживал все эти, главным образом, женские принадлежности и одеяния. Незаметно проработали мы часа четыре и решили на первый раз «зашабашить».
Комната, мне отведенная, оказалась чистой, но совершенно пустой. Обещали нынче же дать сенник, стул и еще что-то, но я не захватил своего саквояжа и потому решил пока ночевать у учителя.
В следующие дни мы продолжали работу. Коллекция была действительно богатая. Одних предметов одежды оказалось до четырехсот, головных уборов, поясов, вышивок до тысячи, а мелких украшений, то есть серег, перстеньков, филигранных пуговиц, тульских пряжек и т. п., — целые витрины. Часто появлялись вещи действительно очень красивые и нарядные, с тканым цветным рисунком по парче, с затейливыми фасонами мелких сборок на талиях и рукавах. Таковы были праздничные одежды крестьянок Новгородской, Псковской и Тверской губерний, многие десятилетия передававшиеся из поколения в поколение, от матери к дочери, от свекрови к невестке. Потускневшими позументами и шелками они рассказывали правдивые повести о бесконечных днях тяжелого труда, когда висели они бережно обернутые в холстину, и о коротких часах отдыха и веселья, когда горели под праздничным солнцем сельской улицы, вспыхивали в отблесках церковных свеч, мелькали, развевались и манили в девичьем хороводе. Удивителен был контраст парчи, шелка, бархата, жемчуга и бирюзы внешних покровов с почти неизменной небеленой грубой холстиной или масляной набойкой подкладок.
На мое замечание об этом Яков Александрович ответил:
— Вот такова-то и жизнь бабья была… Нижнее-то — настоящее, природное, свое, какое всю жизнь носилось… А верхнее — хоть и ее же вкус, да из чужого слажено, — только в праздник, и то с великим бережением одевано. Вроде как пустые щи и медовые белые пряники… Тех ведра за жизнь выхлебала, а этих пяток, любуясь, ссосала…
Иногда старик задерживался на какой-нибудь вещи и, вертя ее в руках, говорил:
— А эту я, кажись, сторговал у бабки Натальи в Скрипкове… Хороша повязка…
И простодушно прикладывал к своему морщинистому лбу обшитую золотым кружевом и позументами штуку, похожую на верхушку античного фронтона.
— А коли коса русая через плечо вот этак, да ясным лучом ударит! — приговаривал он. — Сколько плачено-то? Никак рублей семь я с графини взял?
Не раз смотрел я в каталог, где имелась графа с указанием места приобретения, прежнего владельца и цены, и убеждался, что Яков Александрович помнит все совершенно точно. При этом выходило, что почти все местные предметы куплены при посредстве учителя, и цены за них даны много выше тех, что платились за подобные в других местах. Я сказал ему об этом.
— Понятно, я своих в обиду не давал, — согласился он. — Народ и все, бывало, старину не к графине, а ко мне несет. Авось выторгую лишний целковый…
Проверенные вещи мы укладывали в ящики, заколачивали и ставили в угол.
Я по-прежнему жил в школе, так мне не хотелось расставаться с моими товарищами, и только раза два в дождливые дни мы все вместе оставались ночевать в моей уже обставленной комнате.
Однажды, недели через две, в руки Якову Александровичу попался нарядный шугай голубого бархата с лисьей оторочкой и тонкого рисунка серебряными пуговицами-бомбочками.
Держа его перед собой, старик как-то особенно глубоко задумался.
— Яков Александрович, — сказал я, подождав немного. — Нам, кажется, нужен сейчас зеленый с позументом и без меха. Или вы хотите сначала этот отметить?
— Нет, не хочу, — отозвался он. — А знаете ли, чья одежда-то эта? — И, не ожидая моих слов, сказал: — Матушки моей, Анастасьи Яковлевны.
— И вы на ней этот шугайчик помните? — спросил я, думая, что его охватили воспоминания детства.
— Нет, она его, как отца не стало, ни разу не нашивала, — отвечал учитель. — А умер он, когда я еще младенцем был. Но на портретике, что у меня в комнате висит, она в нем самом нарисована. Видели?
— Должно быть, видел, да давно ведь, и не помню сейчас, — сказал я. — Но теперь его там нет. Вы, верно, сами убрали?
— Да, заметил весной еще, что рамка маленько рассохлась, решил заклеить, да все вот не соберусь.
— А к графине-то как шугайчик попал? Вы пожертвовали?
— Не жертвовал, а продал, — ответил Яков Александрович. — Случилось, знаете, такое обстоятельство, что вот как деньги нужны, а взять неоткуда было. И туда и сюда вертелся — да нет ничего… Вот и продал графине. Она только еще начинала это все собирать… Давно… С тех пор и не виделись.
Старик потупился и медленно гладил своей большой рукой голубой бархат, блиставший кое-где крупинками нафталина.
В тот же вечер, уже в школе, я напомнил учителю о материнском портрете. Он тотчас извлек из ящика стола небольшую гладкую, красного дерева рамочку с акварельным рисунком и подал мне. Рассматривать я отошел к окну, где было светлее.
Девушка в знакомом мне голубом шугае, накинутом на одно плечо, и синем сарафане смотрела из отворенного окна с белым резным наличником. Ряды желтоватых бревен отходили в обе стороны и были лишь слегка тронуты кистью.
Подпертое ладонью лицо правильного овала, с плавными дугами бровей, прямым носом и чуть крупноватым свежим ртом, было повернуто в три четверти, что позволяло рассмотреть тонкие ноздри и легкую горбинку переносья. Но лучше всего в нем были глаза — большие, миндалевидные, зелено-голубые, прозрачные какие-то, они живо блестели из-под темных ресниц, и цвет их вместе с легкой тенью под нижними веками и горячим румянцем щек создавал необычайно свежее и яркое сочетание. Средней высоты чистый лоб был охвачен с обеих сторон симметричными гладкими прядями темно-русых волос, плотно обрисовывавших голову. От этой прически лицо казалось, может быть, более широким, но зато простота ее подчеркивала чистоту девичьего облика и усиливала в нем русское и народное. Лицо дышало такой задумчивой и мягкой прелестью, что я глаз не мог оторвать. Рисунок был уверен и тонок, краски смелы и живописны.
— Хороша? — спросил Яков Александрович, подошедший ко мне сзади, как когда-то, давно, в первый раз моего любования дедовской шпагой. — А похожа как!.. — продолжал он. — Я ее почти что такой в детстве своем помню… Вот так в окошке ее отец мой впервые увидел.
— А его портрета нет у вас? — спросил я.
— Как же, вот он… — и старый учитель указал на стену, где рядом с памятным мне тамбурмажором висел рисунок в рамке, одинаковой с той, что я держал в руках.
Это было уже на днях мною рассмотренное изображение очень молодого мужчины с приятным, задумчивым темноглазым лицом, опушенным небольшими бачками. Он был в белой рубашке с широко отложенным воротом и полулежал на подушках, опираясь на руку.
В чертах молодого человека было заметно сходство с Яковом Александровичем. Впрочем, общим выражением лица старый учитель напоминал, пожалуй, также тамбурмажора, а цветом и разрезом глаз — мать.
— Что это он лежит? Болен? — спросил я. — Вы говорили, он рано скончался, — так, верно, во время последней болезни его и рисовали? Потому портрет и не окончен… — высказал я пришедшую догадку.
— Нет, тут болезнь не последняя, — отвечал Яков Александрович. — Впрочем, это длинная история, так сразу не рассказать.