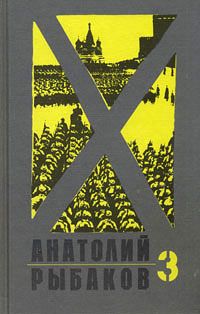Увидев Скоблина, Третьяков перепугался, а на следующий день, узнав из газет, что Скоблин участвовал в похищении Миллера, перепугался еще больше — скрывая Скоблина, он становился соучастником преступления. Два дня Шарок держал его под своим неусыпным контролем, успокаивал старика, а когда Скоблина переправили в Испанию, выдал ему пятьсот долларов за оказанную услугу. Таково было распоряжение Шпигельгласа. Третьяков успокоился, тем более имя его в связи с этим делом нигде и никем не упоминалось, он по-прежнему вне подозрений.
Подробности о похищении Миллера Шарок узнал из газет. Скоблин привез Миллера на бульвар Монморанси, где в воротах виллы два человека втолкнули его в машину, она тут же отправилась в Гавр. В Гавре ящик, в который запрятали Миллера, перегрузили на борт советского парохода «Мария Ульянова», пароход снялся с якоря и ушел в Ленинград. О дальнейшей судьбе генерала Миллера Шарок мог только догадываться — наверняка расстреляли.
Внимательно читая газеты, Шарок усмехался про себя — шумят, кричат. Большевики на территории Франции среди бела дня похищают людей! Похитили генерала Кутепова, теперь генерала Миллера! Грузовик, на котором доставили Миллера в Гавр, принадлежит советскому посольству. В кампанию включился знаменитый Бурцев, разоблачивший в свое время провокатора Азефа. Бурцев утверждал, что главный агент Москвы — не Скоблин, а его жена — известная русская певица Плевицкая. Скоблин при ней на вторых ролях. Плевицкую арестовали, дожидается в тюрьме суда. Обстановка накалялась, Шпигельглас и кое-кто из резидентов отсиживались в Москве. Хорошо законспирированный Шарок остался в Париже. Помимо всего прочего, занимался немецким.
Шпигельглас ему как-то сказал:
— Разведчик должен знать минимум два языка. В школе у вас был французский, в институте — немецкий, так написано в вашей анкете.
— Да, в институте был немецкий.
— Вот и займитесь. Ваш хозяин — эльзасец, жена — немка, говорят и по-немецки, вот вам практика.
Шутливо, но со значением добавил:
— Занимайтесь прилежно, будем проверять. И еще: завязывайте связи с эмигрантами на бытовом уровне, можно и на деловом, коммерческом, если понадобится. У вас должен быть круг знакомых, которые смогут засвидетельствовать: «Ах, Юрий Александрович… Мы его знаем». Это могут быть простые люди, не обязательно титулованные особы.
— Среди простых эмигрантов бывают и князья, — пошутил в свою очередь Шарок.
— И это подходит.
Семен Григорьевич пригласил еще двух аккомпаниаторов — пианиста и баяниста. Баяниста звали Леня — здоровый добродушный парень, безответный, покладистый, таскался со своим баяном, куда прикажут, играл по слуху, репертуар примитивный, выпивал, составил в этом смысле компанию Глебу, да и Саше, Саша в последнее время тоже прикладывался, иногда крепко. Второй — пианист, профессионал, Миша Каневский, худенький, с нервным лицом, серыми беспокойными глазами и длинными красивыми пальцами, учился в ленинградской консерватории, не закончил, попал в Уфу, в Гастрольбюро, работы было мало, и вот принял предложение Семена Григорьевича, от работы в ресторанном оркестре отказался:
— В ресторанного холуя «они» меня не превратят. — И на лице его блуждала скорбно-презрительная улыбка, кривил губы.
Мишу выслали из Ленинграда после убийства Кирова в числе нескольких тысяч «представителей буржуазии и дворянства», его отец, адвокат, владел до революции домом в Санкт-Петербурге. После революции дом реквизировали, адвокат попал в число «бывших крупных домовладельцев», Миша значился «сыном бывшего крупного домовладельца». Таких ребят в Уфе было много, положение их неясное, паспорта не отобрали, только ликвидировали ленинградскую прописку. Будущее свое Каневский представлял, конечно, совсем иным и вот по «их» милости оказался в Уфе, в роли тапера. Все в этом городе было ему ненавистно: «их» клубы, «их» пианино и рояли, которые уже давно пора настраивать, но хамьеэтого не понимает, «их» лозунги на стенах, «их» пошлые современные мелодии, которые ему приходилось играть. В душе презирал Глеба и Леню, никакие они не музыканты, Семена Григорьевича, Нонну и Сашу — халтурщики, сшибают деньгу, держался особняком, не вступал в разговоры, даже курил, стоя в стороне. Как только кончались занятия, мгновенно исчезал.
Глеб его невзлюбил, держался с ним холодно.
— Не выношу еврейского интеллигентского высокомерия, — сказал он Саше.
— Оказывается, ты антисемит? Не думал.
— Я не антисемит, дорогуша, все мои друзья и в школе, и в училище были евреи. И соседи по квартире тоже, прекрасные люди! И мои учителя многие — евреи, таких учителей не найдешь! Но у каждого народа есть свои недостатки, у еврейских интеллигентов — высокомерие. Каневский много о себе понимает, считает себя гением.
— «Этот армянин», «этот хохол», «этот грузин» — противно слушать, — Иванов украдет, скажешь: «Иванов вор». А Рабинович украдет, скажешь: «Еврей вор».
— Неприятный тип.
— Тип — это ты! А он несчастный, гонимый человек.
Во время урока Глеб поглядывал в сторону Саши, чувствовал себя виноватым после разговора о Каневском. Потом перестал об этом думать, играл, покачивая в такт музыке головой, лицо было размягченным, глаза отсутствующими, видимо, что-то вспомнилось. Занятия кончились, а он все сидел за пианино, опустив руки на колени. Кивнул Саше: подойди!
— Ты заметил, дорогуша, что настроение создают самые незатейливые мелодии, самые простенькие слова. Не надо никаких выкрутасов, но желательно, чтобы было слово «помнишь». Тут, скажу тебе, дорогуша, никто не может устоять.
— Например?
— Пожалуйста, даже с твоим именем: «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу. — Он тихонько подыгрывал себе одной рукой, те, кто не успел уйти, возвращались от двери, Глеб хорошо пел, Саша это знал, еще по Калинину — Саша, ты помнишь тихий вечер, весенний вечер, каштан в цвету…» Это Изабелла Юрьева, а вот тебе Лещенко: «Помнишь, как на Масленой в Москве в былые дни пекли блины, ты хозяйкой доброю была и блины мне вкусные пекла». Ну и так далее.
Саша уже вел занятия самостоятельно, сам произносил вступительные речи, не повторял Семена Григорьевича, цитировал не Сократа и Аристотеля, а Пушкина:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и жизнь, и радость,
И дам обдуманный наряд.
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
— Если бы Пушкин появился на наших занятиях, — заключал Саша, — то убедился бы, что в России стройных ножек гораздо больше.
Все улыбались, и Саша начинал занятия.
— Здорово ты придумал с Пушкиным, — одобрил Глеб.
Каневский, обычно не вступавший в разговоры, усмехнулся:
— Современно и своевременно. Отмечали столетие со дня гибели Пушкина, теперь его знают все советские люди. Я прочитал в газете выступление не то доярки, не то свинарки, не помню: «Молодец, Татьяна: отшила Онегина. Когда простенькая была, в деревне жила — отказался от нее. А как генеральшей стала, сразу понадобилась».
Он замолчал, по-прежнему скорбно-презрительно кривя губы. С Сашей, с единственным у него тут сложились более или менее дружеские отношения. Саша жалел его, озлобленного и беспомощного, жалкого в своей гордыне. Каневский чувствовал Сашино участие, перебрасывался с ним двумя-тремя фразами, именно ему охотнее всего аккомпанировал. Но сегодня не смог сдержаться. Слишком совпало это с пушкинскими торжествами, проведенными на государственном уровне с фальшивой помпой. И пользоваться его именем здесь, на этой халтуре? Саша и сам чувствовал, что дует в общую дуду. Но жалко было отказаться от такого радостного вступления к занятиям. Разглагольствовать об эксплуатации капиталистами негритянского населения Америки? Нет, стихи Пушкина о балах, о тесноте и радости здесь больше подходят.
— Подкусил тебя сегодня Каневский, подковырнул, — заметил Глеб.
— Чем это?
— Пушкиным… Мол, власти используют Пушкина и ты с ними заодно.
— Ну что ж, так может показаться.
— Не всем, дорогуша, не всем. Мне вот не показалось, мне, наоборот, понравилось. А ему нет. «Свинарки», «доярки»… Видел он этих свинарок и доярок? Молочко небось пьет, а доярок презирает. Он бы хоть раз на их руки посмотрел. Пальцы корявые, распухшие, ими по клавишам не потренькаешь, попробуй подои корову, поймешь, сколько сил надо.
— Дался тебе этот Каневский! Может быть, тебе не нравится, что он играет на рояле не хуже тебя?
— Он обязан играть лучше меня, он учился в консерватории, а я нигде не учился, к тому же я не музыкант, а художник. Мне не нравится другое, мне не нравится, что мы из-за него в тюрьму сядем. Вот что мне не нравится.
Саша пожал плечами.
— Да, да, дорогуша, представь себе! Насчет Пушкина он сказал издевательски: в Пушкина вцепились хамы.