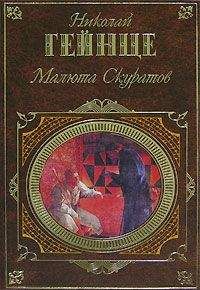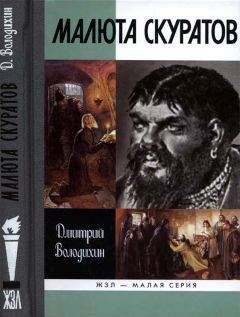Переживаемая Русью упомянутая тяжелая година началась в самом конце 1564 года и почти неожиданно.
Случившаяся незадолго перед тем измена Андрея Курбского, бежавшего в Литву, и неудавшийся замысел Сигизмунда потрясти Россию, произвели в Москве только кратковременную тревогу, но далеко не в такой малой мере отразились в подозрительном сердце Иоанна. Царь продолжал кипеть гневом и волноваться: все бояре казались ему тайными злодеями, единомышленниками Курбского: он видел предательство в их печальных взорах, слышал укоризны или угрозы в их молчании. Наступило время доносов, их требовали и жаловались, что их мало: самые бесстыдные клеветники не удовлетворяли жажде подозрительного государя. Еще какая-то невидимая десница удерживала тирана. «Жертвы были перед ним, — как образно говорит Карамзин, — но еще не вздыхали, к его изумлению и муке».
Вдруг, в начале зимы 1564 года, Москва узнала, что царь уезжает неизвестно куда со всеми своими ближними, дворянами, приказными и воинскими людьми, созванными поименно с семействами из самых отдаленных городов.
Рано утром 3 декабря изумленные москвичи увидали необычное зрелище: на Кремлевской площади появилось множество саней, на которые начали сносить из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты, драгоценные сосуды, одежды и деньги.
Государь, окруженный боярами, вышел из дворца и прошел в церковь Успения, где митрополит Афанасий отслужил обедню.
Иоанн молился с необычным усердием, принял от Афанасия благословение, милостиво допустил к своей руке бояр, чиновников и купцов и, вышедши из церкви, сел в приготовленные роскошные пошевни с царицей, двумя сыновьями, с Алексеем Басмановым, Михаилом Салтыковым, князем Афанасием Вяземским, Иваном Чеботовым и другими любимцами и, провожаемый целым полком вооруженных всадников, выехал из столицы, оставив ее население ошеломленным неожиданностью.
Осиротелая Москва пришла в ужас.
— Государь нас оставил, мы гибнем! — раздавались возгласы.
— Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменниками? — слышались беспокойные вопросы.
— Как могут быть овцы без пастыря! — причитали третьи.
Чувство народа, привыкшего к самодержавию и глубоко сознающего его несомненную пользу, сказались рельефно в этот тяжелый, слава Создателю, не повторявшийся исторический момент.
Догадывались о причинах, побудивших царя на такой решительный шаг, — измена Курбского была слишком свежа в народной памяти, — и все, от бедного до богатого, от простого до знатного говорили:
— Пусть царь казнит своих лиходеев, в животе и смерти его воля, но царство да не останется без главы! Он наш владыка богоданный, иного не ведаем.
— Пусть укажет нам царь своих изменников, мы сами истребим их.
Громче и настойчивее заговорили в том же духе после 3 января 1565 года, когда присланный Иоанном чиновник Константин Поливанов вручил митрополиту грамоту царя, в которой тот описывал все мятежи, неустройства и беззакония боярского правления во время его малолетства, доказывал, что они расхищали казну, земли, радели о своем богатстве, забывая отечество, что дух этот в них не изменился, что они не перестают злодействовать, а если он, государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным, то митрополит и духовенство вступаются за виновных, грубят, стужают[3] ему.
«Вследствие чего, — так заканчивал Иоанн свое послание, — не хотя теперь ваших измен, мы, от великой милости сердца, оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь».
От Поливанова узнали, что царь из Москвы проехал в село Тайнинское, а оттуда в Троицкий монастырь, и лишь к Рождеству прибыл в Александровскую слободу.
Митрополит один хотел немедленно ехать к царю умолять его возвратиться, но бояре сказали ему:
— Мы все с своими головами едем за тобою бить челом государю и плакаться.
Собрался совет и на нем положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, в которой господствовало необычное смятение: все дела пресеклись, суды, приказы, лавки и караульни опустели. Ударить челом царю и «плакаться» избрано было посольство, в числе которого поехал в Александровскую слободу и князь Никита Прозоровский.
VI
В хоромах князя Василия
Не с веселыми вестями вернулся князь Никита из Александровской слободы.
Но прежде чем мы узнаем их из келейной беседы двух братьев князей, столь различных характерами и жизненными целями и столь сходных по внешнему облику, опишем в нескольких словах их наружность.
Князь Василий Прозоровский был высок и дороден. Темно-русые, с сильною проседью волосы в беспорядке падали на умный лоб с несколькими рассеченными шрамами — почетным украшением воина. Окладистая борода, почти совершенно седая, покрывала половину груди. Из-под темных нависших бровей сверкал открытый, честный проницательный взгляд прекрасных, сохранивших почти юношескую свежесть карих глаз, а вокруг уст играла приветливая улыбка. Непоколебимое сознание своего достоинства, своих способностей и заслуг, не переходя границ, где начинается чванство, проявлялось во всех движениях и речах князя Василия. Его младший брат, князь Никита, был замечательно схож с ним, но казался гораздо моложе, хотя разница в летах братьев была невелика. Он был только несколько ниже ростом. Взгляд его глаз, глядевших исподлобья, хотя и выражал тоже недюжинный ум, но с большой примесью хитрости и искательства, а сквозь улыбку просвечивало то, что в просторечье называется «себе на уме». Быть может, печать этих свойств, разнивших его от брата, положила на него придворная жизнь того времени, мутные волны которой для него, как мы знаем, были родной стихией.
Троекратно облобызав приехавшего брата, князь Василий ввел его в брусяную избу с изразцовой лежанкой, с длинными дубовыми лавками вокруг стола, стоявшего ближе к переднему углу, и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво уставленной на широких полках.
В этой комнате, в сопровождении четырех сенных девушек, уже дожидались князя Никиту его племянница, княжна Евпраксия Васильевна, с двумя золотыми кубками, наполненными дорогим заморским вином, на серебряном подносе.
Такие «встречные кубки» были обычаем того времени для дорогих гостей.
Потчевание этими кубками в домах женатых людей лежало на обязанности жены, у вдовцов же — на взрослой старшей дочери. Неподнесение кубка считалось высшею степенью холодности приема.
В обычаях «встречного кубка», да еще в «поцелуйном обряде», когда хозяин, по старинной русской «обыклости», как выражались тогда, просил гостя или гостей не наложить охулы на его хозяйство и не побрезговать поцеловать его жену или дочь, после обнесения последними гостей «кубком привета», который хозяйка пригубливала первая, проявлялось и ограничивалось всякое дозволенное женщине того времени сообщение с посторонними мужчинами, кроме ее мужа, отца или брата. Тихо и плавно приблизилась княжна Евпраксия к отцу и дяде и отвесила им обоим поясной поклон «малым обычаем». От этого движения и от тяжести подноса, который она держала в руках, кубки, стоявшие близко друг к другу, зазвенели.
Княжна была в голубом, вышитом серебром сарафане, прекрасно шедшем к ее светло-каштановой широкой косе, заплетенной в девяносто прядей. Заплетена она была очень слабо и закрывала, подобно решетке, весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь непомерно.
Много требовалось на то умения и досуга, но первого не занимать было сенным девушкам княжны Евпраксии, а второго было много и у боярышень, и у прислужниц в те праздные для русской женщины времена. В косу были искусно вплетены нитки жемчуга, а на ввязанный в конце косы треугольный косник насажены дорогие перстни с самоцветными камнями.
Изящный овал лица, белизна кожи и яркий румянец, горевший на полных щеках, в соединении с нежными, правильными, как бы выточенными чертами лица, густыми дугами соболиных бровей и светлым взглядом темно-карих глаз, полузакрытых густыми ресницами, высокой, статной фигурой, мягкостью очертаний открытой шеи, стана и полных, белоснежных рук, видневшихся до локтя из-под широкого рукава сарафана, ни единым штрихом не нарушали гармонию в этом положительном идеале русской красоты, выдающеюся представительницей которого и была княжна Евпраксия Прозоровская.
Ей, как мы знаем, шел шестнадцатый год. Что же можно было ожидать в будущем от этого, едва распустившегося, но уже роскошного цветка?
Недаром князь Василий гордился своей дочерью, но ее чарующая красота порой наводила его на печальные думы.
Сыщется ли для нее достойный суженый? Ни на одном молодом боярском сыне не мог он остановить своего выбора. Ни в одном из них, по совести, не желал бы видеть он своего будущего сына. Годы между тем промелькнут незаметно, да и не много осталось их до полного расцвета юной княжны.