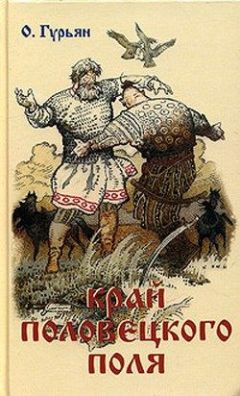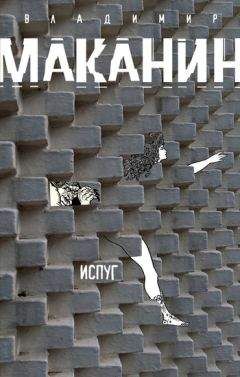Наиграется боярыня кольцом, натешится, поковыряет перстами в блюде, выберет пряник послаще и проворкует:
— Спой мне, Ядреюшка, печальную песню.
Ядрейка старается, поет:
Как в высоком терему в златоверхоем
Горько плачет девица по милому дружку.
Семь дней плачет, в восьмой слезы льет.
А те слезы катятся мутной рекой,
Мутной рекой,
непрозрачною.
— Ой! — стонет боярыня. — Ой-ойешеньки! Сейчас со смеху лопну. Ой, все мое белое тело трясется. До чего же ты, Ядреюшка, смешно поешь, овцой блеешь. Спой мне еще попечальнее, я еще посмеюсь, порадуюсь!
Ядрейка самую распечальную песню затягивает.
— Ой! — вопит боярыня. — Постой, дай отдышаться! Нет моей силы смеяться, сейчас помру. Погоди петь, Ядреюшка. Пусть Вахрушенька мне на сопелках сыграет, а я отдохну.
Под звуки сопелки у боярыни глазки смыкаются, губки разжимаются, носик посапывает — започивала боярыня.
Ядрейка с Вахрушкой тихонько из горницы выходят. Выходят они из долгу, бегут на конюшню. Ядрейка с конюхами дружит, Вахрушка с конями…
То не звезды с неба скатились —
Косогором кони проскакали,
Эх, кони! Кони! Кони!
Копытами землю топочут,
Подковами искры высекают.
Расстилаются гривы по ветру:
Белые-то — светлым облаком,
Черные — грозовой тучею,
Рыжие — алым пламенем.
Вахрушка в конюшне всех коней различает, знает по кличке, по масти узнает.
Любо ему конюхам во всем помогать — чистить-скрести коней, поить их, корм засыпать, сменять солому на подстилку.
Конюхи его хвалят, обучают своему делу. А иной раз посадят Вахрушку смирной кобыле на спину, шлепнут ее по крупу — беги! Он вцепится ей в холку, а она осторожным шагом вынесет его на широкий двор, не качнет, не уронит, карим глазом косит: здесь ли всадник, не свалился ли.
Конюхи довольны, хохочут, и Вахрушка доволен.
Вот так-то бы им жить-поживать и не надо бы искать другого счастья. Да нежданно-негаданно пришла беда.
Пришли подружки в гости к боярыне, и она стала им своими нарядами похваляться.
— Тащи, Дунька, укладки, ларцы кованые, подай шкатулку резную, костяную.
Дунька бегает, тащит ларцы и шкатулки. Боярыня отпирает звонкие замки, поднимает тяжелые крышки, вынимает ожерелье с подвеской-лунницей, золотую гривну витую, запоны, обручи, височные кольца, чернью и зернью изукрашенные, сканью, как паутинка, тонкой.
Самоцветные каменья жаром горят, жемчуг лунно мерцает.
Под конец показала им боярыня царьградское кольцо.
Все уборы подружки на себе примерили, ахали, любовались, друг дружке из рук в руки передавали, насмотрелись досыта, собрались домой.
Боярыня пошла их провожать, а как вернулась, хватилась кольца — нет его.
Заголосила, запричитала боярыня:
Пропало мое кольцо золото-ой-ое!
Драгим камнем изукрашенно, ой!
А куда ж оно закатилось?
Разве в море оно утопилось?
Или в небо оно возносилось?
Или воры-разбойники украли?
Ой!
Дунька украла, больше некому. Дунька одна в горнице оставалась, укладывала золотые уборы по ларчикам. Дунька-воровка.
У закрытых дверей горницы собрались все девки, к двери приникли, слушают.
Раз! — Дунька на колени брякнулась.
Два, три, четыре! — головой о пол стучит, поклоны бьет.
— И-и-и! — завизжала.
Боярыня ее по лицу хлещет, ногами топчет, волосы клочьями выдирает.
— Сознавайся! — кричит боярыня. — Сознавайся, проклятая, не то хуже будет!
— Не брала я кольца… — стонет Дунька.
— Ты не брала, кто брал? Не сознаешься, я тебе уши и нос окорнаю!
Тут Дунька испугалась, не стерпела: взвела поклеп на невинных людей.
— Кто брал?
— Скоморохи украли. Ядрейка тут вертелся.
Услыхали то девки, переглянулись, и одна, пошустрей, тотчас прочь шмыгнула — отыскала Евана на поварне. Тот за Ядрейкой, за Вахрушкой на конюшню кинулся. Распахнулась дверь горницы, боярыня кричит:
— Подать сюда Ядрейку-вора!
Забегали девушки туда-сюда, а скоморохов и след простыл.
И котомки ихние здесь, а самих нет. Перерыли все ихнее добро — нет кольца.
Бросилась боярыня к Сидору Добрыничу, плачет, слезами заливается:
— Пошли в след погоню!
Вскочила погоня на коней: в какую cторону броситься? А кто-то видел, как они через задние ворота на проезжую дорогу вышли, повернули, помнится, на север. Кинулась погоня вслед.
Проезжая дорога топтана-перетоптана, в колеях да в колдобинах, следов на ней, может, с полтысячи. Много следов, и эти, знать, тут.
Мчится погоня. Один как вскрикнет:
— Смотри-ка! Тут чьи-то сани с дороги к лесу свернули.
На него зацыкали:
— Дурак, откуда у них сани? Они пешие бежали, второпях.
Привели следы на дороге в деревню.
— Проходили здесь воры-скоморохи?
— Не было таких.
— А врете вы! Сами воры, воров покрываете.
И началось побоище.
Кому нос проломили, кому голову, а кто замертво свалился, того кони потоптали. Обыскали все избы, а куда их не пустили, тех подожгли — спрятались, так дымом выкурим! Ветер дует, пламя на соседние крыши переносит.
Вернулся Сидор Добрынич домой ни с чем. Под глазом синяк, борода выщипана, бобровую шапку зазря потерял — не нашел скоморохов.
На крыльце встречает его Евпраксеюшка, улыбается, на каждой щеке по ямочке.
— А мы колечко дома нашли. В мышиную норку закатилось.
Да куда же, в самом деле, подевались скоморохи? Ни в море они не потопились, ни сквозь землю не провалились, а выбежали они, в чем были, за ворота и побежали по дороге. Еван бежит-пыхтит; Вахрушка за его рубаху держится, ногами перебирает, снег загребает, едва за Еваном поспевает. А у Ядрейки голова на тонкой шее вертится, как горшок, что на плетень сушиться вывесили. Беспрестанно оглядывается Ядрейка, от страха стучит зубами, еле-еле выговаривает:
— На-на-нагонят нас! Мы пе-пеши, они конны!
Еван пыхтит-отвечает:
— Авось, уф-уф! Не хватились еще — уф! Позади никого не видать — пых-пых!
Вахрушка кричит:
— Впереди дяденька на санях!
Еще прибавили они ходу, на ходу кричат:
— Эй! Эй! Постой!
Нагнали мужика с санями, просят:
— Будь добрый человек, подвези.
Мужик отвечает:
— А я в лес за дровами еду, А вам в лес-то не по пути будет.
Еван поскорей говорит:
— А по пути, по пути. Нам в лес по пути. У настам родные-знакомые проживают!
Это он нарочно выдумал. Какая там в лесу родня? Волки да медведи? Никакой родни у него там не было. А Вахрушка поверил, обрадовался:
— У меня за лесом мамка живет, заждалась нас!
Мужик уж было согласен, да сомневается:
— А вы не разбойники будете?
Еван его уверяет:
— Да протри глаза! Да разве разбойники такие? Кто на разбой малого мальчонку с собой берет?
Поверил мужик, посадил их в сани, повез. Вот поехали они, свернули с дороги в лес, приехали на порубку, остановились сани. Мужик говорит:
— Вот мое место, а дальше уж пешком пойдете. Я и рад бы вас подальше подвезти, да тороплюсь обратно дотемна вернуться.
Скоморохи благодарят:
— И на том спасибо. Нам уж теперь недалеко.
Да, недалеко! Сами не знают, куда идут.
Вот углубились они в лес, а лес чем дальше, то дремучей. Высокие деревья густо стоят, переплелись-перепутались ветвями — неба не видать. Снега навалило Вахрушке по колени — тропки-то нехоженые, неезженые, вовсе никаких тропок нет. Вахрушка спрашивает:
— А скоро мы к мамке придем?
— Ну и несмышленыш! — говорит Еван. — Мы сюд аот твоей мамки два месяца шли, а ты обратно хочешь в полдня добраться. Сколько отсюда туда, столько ж оттуда сюда. Через два месяца вернешься к мамке.
Вахрушка помрачнел. И в ногах будто тяжести прибавилось.
Наконец все трое выбились из сил и, куда дальше двигаться, не соображают. А уж стало совсем темно. Еван говорит:
— Утро вечера мудреней, придется нам в лесу заночевать. А не хотелось бы.
Ядрейка потянул носом и говорит:
— Человечьим духом, дымком пахнет. Я влезу на дерево, на высокое, погляжу на все четыре стороны — высмотрю человечье жилье.
Выбрал он дерево повыше, подскочил, ухватился за сук, подтянулся и вверх полез. Руки-ноги у него длинные, живо взобрался на самую верхушку. Кричит оттуда:
— Огонек видать! И недалеко!
Стал он спускаться, а Еван ему снизу кричит:
— Эй, Ядрей! Осторожней ступай! Смотри, куда ногу ставишь! Сперва пощупай, а потом уж опирайся. Вниз-то оно опасней! И кошка с дерева задом ползет.
— Ученого учить! — небрежно говорит Ядрейка.