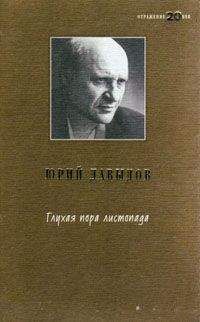Да, Лиза усердно занималась. Притомившись, расхаживала по комнате, рассеянная, то хмурясь, то улыбаясь, или, случалось, встанет пред зеркалом и вообразит себя Анной Есиповой.
Музыкантша, прославленная в обеих столицах и за рубежом, была высокой, статной красавицей, а в зеркале отображалась среднего роста бледненькая барышня, не дурнушка, а, как говорится, ничего себе. Лиза не спорила с зеркалом, но и не отказывалась от ребяческого удовольствия наедине вообразить себя Есиповой, когда та, в черном декольтированном платье с бриллиантовой брошью, накинув на плечо длинную, снежной белизны шаль, исполняет: «Усни, печальный друг…»
С некоторых пор она жила без мамы и братьев, предоставленная самой себе, немного прирабатывая уроками, довольная своей самостоятельностью. Большая семья, несмотря на согласие и дружество, в последнее время утомляла и раздражала Лизу, хотя каждого в отдельности она не переставала любить.
Вынужденный отъезд Володи пережила она бурно, с рыданьями, но длилось это недолго, Лиза как-то разом утихла. И не то чтобы запрятала горе, нет, словно отрезала: «Ну, будет тебе!»
Володя писал изредка, Сергей не писал вовсе. Она знала лишь, что он где-то на юге. А недавно, уже зимою, маменька, тосковавшая у старшей замужней дочери в Белгороде, сообщила Лизе об аресте Сергея, и Лиза жалела Сергея фамильным чувством – такие уж они, Дегаевы, обездоленные.
О том, что ее братья «в революции», догадывались многие Лизины знакомые. Репутация братьев придавала Лизе некий ореол, подогревала симпатии к ней. Лизе был приятен этот ореол, отблеск мученичества, но она порою думала, что было б не худо сочетать радикализм с умением существовать безбедно.
Жалея Сергея, тревожась о нем, Лиза, как ни странно, была почему-то убеждена, что он опять отделается кратким арестом. Бог весть отчего, но верила в это, и все тут. Однако почта не приносила успокоительных известий, и Лизу, наверное, покинуло бы убеждение в скором избавлении Сергея… Наверное, она бы помрачнела, но тут… Ах, тут-то как раз и началось!
Блинова увидела Лиза на масленой, в широкий четверг, на вечеринке у курсисток и студентов Горного института. Внешность его не была примечательной. Был он белокур, с молодой бородкой, держался сдержанно, почти замкнуто.
На вечеринке пили дрянное вино, веселились, шумели. Лиза много играла, и, право, с вдохновением, она даже отважилась спеть «Усни, печальный друг», и получилось недурно.
Блинов вдруг подошел к ней, объявил себя тенором и предложил петь на два голоса и действительно стал петь тенором, но при этом страшно фальшивя. Пирующие студенты помирали со смеху, кричали: «Браво, Коля! Браво!» Он ничуть не смущался, пел, и баста, оставив свою сдержанность и напустив комическую важность. Лиза смеялась, с притворным ужасом зажимая уши.
Он провожал Лизу. Они шли об руку, чуть нагнувшись, навстречу полуночной метели, вино гудело в крови, они болтали всякий вздор. А в парадной их будто столкнуло, они целовались долго, влажно, жарко, задыхаясь.
В те дни, когда Дегаев, уже будучи в Петербурге, откладывал свидание с сестрой, Лиза часто встречалась с Блиновым. Он бывал у нее, им было хорошо, но вдруг оба умолкали, растерянно прислушиваясь к подстрекательской тишине пустой квартиры. Блинов начинал торопиться, ссылаясь на какие-то неотложные дела, о которых он, дескать, мог бы сказать ее, Лизиным, братьям, а ей доверить не имеет права. У него и впрямь были «такие дела», но торопился он и убегал совсем но иной причине. Лиза об этом догадывалась, боялась удерживать и досадовала на него.
Дегаев явился не вовремя. Лиза, правда, обрадовалась, но Дегаев приметил на лице ее тень, усмехнулся, пожимая руку студента Горного института.
Блинов тотчас откланялся. Оставшись вдвоем с сестрою, Дегаев не преминул поддразнить Лизу. Он это умел, с мальчишества умел как бы походя ущипнуть, задеть больнехонько. Сестры, брат Володька были ему дороги, он их любил, хоть и обижал зачастую. От других, посторонних, обид не стерпел бы, а себе позволял обижать. Чаще всего доставалось Лизе, и она негодовала на «противного Сержа»… Вот и сейчас, кивнув вслед Блинову, он ехидно вопросил:
– Не второй ли Борис Иванович?
Лиза покраснела и фыркнула…
То была давняя история. Началась она в апрельский день, когда Лиза решилась пойти на Семеновский плац. Лиза была на плацу, в толпе, неподалеку от помоста, вместе с толпою окостенела, услышав грубый скрип колесниц, увидев мерное черное колыхание смертников: привезли… На другом помосте, рядом с виселицей, где молчали, как на парадном обеде, произошло движение: господину Плеве доложили о готовности к исполнению приговора. Пятеро взошли на эшафот, с толпы смыло шапки, грянули военные барабаны. Приговоренные прощались. «Целуйте мя последним целованием». Кибальчич, Желябов, Перовская, Тимофей Михайлов, Рысаков. Лишь Перовская отстранилась от Рысакова, от несчастного мальчишки, предавшего всех.
Палач повесил Кибальчича, подвел к петле Михайлова, Тимошу Михайлова, молодого губастого парня, рабочего с Невской заставы. Палач надел петлю, вышиб скамейку из-под ног Михайлова. И вдруг барабаны умолкли, как лопнули. А толпу словно ударило палкой под коленами, толпа ахнула: Михайлов упал на помост – петля оборвалась. «Божий знак! – закричали люди. – Божий знак! Миловать!» Он сам поднялся, в саване, в башлыке, со связанными руками, он сам поднялся и шагнул к новой петле. Стоял. Ждал. Сквозь редкую холстину башлыка видел свое последнее солнце. Но уже не такое, не ясное и жестокое, как минуту назад, а будто в багровеющих пульсирующих волдырях. Спохватились барабанщики, били отчаянно громко. Но секунда, другая: «А-а-а!» И Лиза, теряя сознание, тоже закричала: Тимофей Михайлов опять тяжело и грузно упал на помост…
Плохо различала Лиза, как солдаты взвалили на ломовые телеги пять черных гробов, как некий господин поднес ей нашатырю, взял об руку. Потом этот господин, бережно поддерживая барышню, ехал с нею на конке, говорил, что нельзя так нервничать, и еще что-то бессмысленное, пустяковое.
Он проводил ее до дому, она представила его своим спасителем. С того дня он зачастил к Дегаевым. Его звали Борисом Ивановичем Зверевым. Он был приятен, неглуп, Сергею Петровичу посулил достать чертежную работу в какой-то конторе.
Лиза не то чтобы строила на него виды, но Борис Иванович был ее первым серьезным ухажером, и это ей льстило. Она не принимала настороженности Сергея (недавно, мол, из тюрьмы, болезненная подозрительность). Дегаеву действительно не импонировал смазливый блондинчик. Сергей Петрович навел справки у товарищей, хранивших еще «черные списки» Клеточникова, и удостоверился, что Зверев обыкновеннейший мерзавец из охранного отделения. Объявив об этом сестре, Дегаев отказал Борису Ивановичу от дома: неприлично-де барышне водить знакомство с молодым человеком, который никем ей не представлен. Отказ был шит белыми нитками, но Зверев все понял, исчез с горизонта… И вот спустя столько времени «противный Серж» укусил:
– Не второй ли Борис Иванович?
– О это уж слишком! – крикнула Лиза.
Она разобиделась до слез. Надо знать меру! В ее обиде крылось еще и раздражение на брата за столь несвоевременное вторжение.
– Ну прости, прости, – ласково сказал Дегаев, обнимая сестру за плечи, – столько не виделись, а ты…
– Не я, а ты… ты, – возбужденно отозвалась Лиза. – Прекрасный он, честный. Нет, это невозможно! Какая нравственная грубость, Сергей! Приходишь и ни за что ни про что…
– Хорошо, Лизок, согласен – прекрасный, честный… Однако в моем положении… – Он развел руками.
Лиза опешила.
– То есть?
– А то, милая… – И он жестом изобразил бегущего человека.
Лиза ахнула.
– Когда ж? Как? Господи, Сережа! Что ж это будет? А мама знает? Господи, господи, ведь они тебя могут…
Дегаев снова обнял сестру, она прижалась к нему, оба испытывали родственную, кровную близость.
Она заспешила в кухоньку, загремела посудой. Дегаев тихо улыбнулся: до чего ж Лизонька похожа на маму. Дегаев подумал, что напрасно тянул со свиданием. Вот пришел, сидит, вот эта гостиная с замоскворецкой мебелью, а справа комната, где они с Белышом жили. Да-а, Белыш, Любинька. Ведь как обернулось: ей он обязан своим спасением. Жаль, пришлось расстаться. Как-то она там, в Белгороде, без него?
Нехотя, без тех подробностей, которые открыл в Харькове Вере Николаевне Фигнер, описал он свой побег. Лиза и не настаивала – тяжело брату вспоминать Одессу.
Они пили чай, говорили о семейных делах. Володе, конечно, грустно отбывать службу в Саратове. Но что поделаешь? Еще, слава богу, Судейкин ограничился угрозой: «Постарайтесь, чтоб правительство забыло про вас!» А Наталья, кажется, оставила свои сценические грезы, думает заняться беллетристикой, переводить «Фауста». Он, Сергей, доволен, что познакомил ее с Маклецовым, своим приятелем по Кронштадту. Маклецов натура практическая, умеет приспособиться; Наталья счастлива в замужестве. Правда, эти вечные переезды с места на место. Такая уж у Маклецова служба: в разных обществах по строительству железных дорог. Пусть Лизонька не беспокоится, маме хорошо у них, и если Лиза летом поедет в Малороссию, Наташа и Коля будут только рады. Какое неудобство? Его-то, Сергея, они привечают, лучше желать нечего. Ах и пожил он у них прошлой осенью на хуторе Максимовка! Что за жизнь, честное слово. Пусть Лиза непременно летом отдохнет. Конечно, Харьков или Белгород – это все городское, но, возможно, Маклецов заберется в деревню, близ Лозовой, он, кажется, получит какую-то работу в обществе Лозово-Ссвастопольской железной дороги.