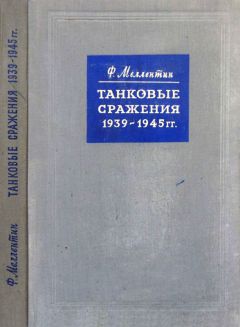Явись тогда на партийное собрание пусть один человек с просветленным взглядом на положение вещей, и все увиделось бы в ином свете, многое стало б ничтожным и смешным… Такого не случилось. В итоге – строгое партийное взыскание, а затем отстранение от должности военного коменданта Москвы.
Только со временем, проведя несколько месяцев в тревожном безделье, в мучительных размышлениях, комбриг Лукин усилиями маршала Ворошилова был направлен на штабную работу в Сибирский военный округ. Терпеливо снес тогда обиду, ибо то было смутное время, требовавшее горькой дани даже при абсурдных обвинениях. Родилось оно, как понимал Лукин, усилиями тайных врагов, карьеристов и в результате прямых ошибок иных обладавших властью, допускавших злоупотребления не только индивидуальной, но и социальной силой. Иные слои общества забродили тогда от дрожжей недоверия: кое-кому мнились затаившиеся враги даже там, где их вовсе не было и не могло быть. И часто обвинялись безвинные; тогда рушились судьбы честных людей, разверзалась пропасть перед целыми фамильными династиями… Не обошло это черное поветрие и армию, обнажив многие командные высоты и нанеся вред военному могуществу государства…
В начале 1940 года Москва затребовала на генерала Лукина партийную характеристику: готовилось его назначение командующим 16-й армией. И вновь пришлось испить ему горькую чашу обиды: несколько часов обсуждало партийное собрание «политическое лицо» коммуниста Лукина. Опять было разворошено все старое и через замутненность давних событий, с незнанием подспудности истин, просмотрен каждый последующий шаг генерала. Сказалось и то, что характер у него был крутоват: уже за время пребывания в Сибирском военном округе на постах заместителя начальника штаба, начальника штаба, а затем заместителя командующего Михаил Федорович успел кое-кому «насолить» – усложнить жизнь своей строгой требовательностью и непреклонностью в службе. Но правда восторжествовала: вскоре он стал командармом.
И вот здесь, под Смоленском, опять камень на сердце, будто кинутый из прошлого. Ему шлет Военный совет шифровку, в которой требует выбить немцев из Смоленска и угрожает, что в случае невыполнения приказа его ждет суд военного трибунала. Как же это понять? Ему не верят, что он никак не может при наличии столь малых сил вернуть Смоленск? Значит, его ждет такая же судьба, как и Павлова? Это уже даже не обижало, а ожесточало. Генерал армии Павлов ведь действительно в преддверии войны и в ее первые дни далеко не все сумел сделать так, чтобы наземные и воздушные силы Западного фронта не понесли столь больших потерь… А он, генерал-лейтенант Лукин, кое-что успел сделать еще до прибытия сюда, под Смоленск. Мог бы и гордиться сделанным на Юго-Западном фронте, в Шепетовке, в самые первые дни войны. Ведь его «шепетовские» решительные и рискованные действия, принесшие в итоге огромную пользу Юго-Западному фронту, были замечены высшим командованием… Но на войне высшему командованию часто не хватает времени оглядываться во вчерашний день. И вот эта жестокость приказов и многозначительность телеграмм…
Если есть история событий в их причинных связях и их взаимообусловленностях, то и есть подобного склада история человеческих чувств и отношений. Генерал армии Жуков, деятельность которого как начальника Генерального штаба каждый день получала оценку Государственного Комитета Обороны, чаще всего в лице Сталина, иногда задумывался над тем, как и из чего сложились его суждения об этом первом в партии и в государстве человеке, как созрели те сложные чувства к Сталину, которые испытывал почти каждый раз, готовясь к встрече с ним. А встречаться с Председателем ГКО, не считая телефонных переговоров, приходилось дважды в сутки, когда докладывал в Кремле не только все то главное, происшедшее на фронтах, изученное и обобщенное Генеральным штабом как рабочим органом Ставки, но также излагал созревшие выводы, предположения и проекты очередных оперативно-стратегических решений.
А донесения с фронтов ничем не радовали. Наши потери росли, и враг на многих направлениях все глубже вгрызался в советскую территорию. Поэтому атмосфера в кабинете Сталина часто оказывалась до предела наэлектризованной, и Жуков нередко уходил от него, ощущая напряжение каждого нерва, каждой клетки тела. На резкости в высказываниях Сталина сам часто отвечал резкостями, зато каждая похвала Сталина по его адресу, каждое согласие с предлагавшимися Генштабом оперативными решениями окрыляли Жукова, придавали ему уверенности, пробуждали новую энергию к действию и к поискам мысли.
Но все-таки не объяснить словами его чувства к Сталину из-за их многосложности и некоторого непостоянства. Когда Жуков размышлял над этим, часто вспоминал самую первую встречу с ним. Она имела предысторию, связанную с событиями весны и лета 1939 года на Дальнем Востоке. Жуков, тогда заместитель командующего войсками Белорусского военного округа, был срочно вызван в Москву, к Народному комиссару обороны Ворошилову, который сообщил ему о том, что Япония напала на Монголию, а Советский Союз, согласно договору с Монголией, должен оказать ей военную помощь. Потом маршал Ворошилов спросил: «Можете ли вылететь туда немедленно и, если потребуется, принять на себя командование войсками?»
Жуков бегло взглянул на стол для заседаний, покрытый картой Монголии, увидел начертанную восточнее реки Халхин-Гол линию вторжения японских войск. Он, разумеется, знал, что кульминация полководческой мудрости – это правильное решение, вытекающее главным образом из знания противника и своих войск. Ни первого, ни второго у него пока не было, но, повинуясь зову своего характера идти навстречу трудностям и опасностям, тут же ответил: «Товарищ маршал, готов вылететь хоть сию минуту!»
Жуков полагал, что после этого его пригласят в Генштаб, там начнется сидение над картами, изучение оперативно-тактических приемов действий японских войск. А затем будет встреча со Сталиным. Ничего подобного не случилось…
«Очень хорошо, – удовлетворенно сказал ему Ворошилов, – самолет для вас будет подготовлен на Центральном аэродроме к шестнадцати часам…»
Чем завершились сражения на Халхин-Голе – всем известно. Красная Армия отбила у Японии охоту мериться силами, заставила ее поостеречься нападать на СССР вслед за фашистской Германией… Лично же Жуков показал свое истинное полководческое искусство, свою волю и целеустремленность, по праву заслужив звание генерала армии и Героя Советского Союза.
Со временем его вызвали в Москву для назначения на новую должность и тогда лишь впервые пригласили в Кремль.
Узнав, что предстоит встреча со Сталиным, Георгий Константинович испытал такое волнение, какого, кажется, никогда не испытывал. Не потому, что был наслышан о сложности и загадочности характера Сталина. Он размышлял о Сталине как верном соратнике Ленина, мудром продолжателе его учения и военно-политическом стратеге с железной волей и непостижимой глубиной ума.
В кабинете Сталина также увидел Молотова, Калинина и Ворошилова. За чаем началась беседа, в которой ему, тогда сорокачетырехлетнему генералу армии, была отведена главенствующая роль. Все очень внимательно слушали оценочные размышления Жукова о японской армии, ее сильных и слабых сторонах, а также о том, как действовали в боях с самураями войска Красной Армии. Члены Политбюро задавали вопросы, и Жуков свободно и раскованно отвечал на них. Но вдруг Сталин спросил о неожиданном:
– Как помогали вам Кулик, Павлов и Воронов?
Жукову почудилось, что в этом вопросе крылась какая-то опасность для него, и по велению своего характера поспешил ей навстречу, кинув озадаченный взгляд на Ворошилова. О помощи пребывавших во время боевых действий на Халхин-Голе Павлова, как начальника Автобронетанкового управления Красной Армии, и Воронова, как начальника артиллерии, Жукову было что сказать членам Политбюро. Он действительно ощущал их присутствие и помощь. А о маршале Кулике, заместителе наркома обороны?.. Уклоняться от правды он не умел. И, еще раз взглянув на Ворошилова, продолжил с сумрачностью в голосе:
– Что касается маршала Кулика, то я не могу отметить какую-либо полезную работу с его стороны…
Сталин, до этого прохаживавшийся по кабинету, вдруг остановился. Выдохнув облако табачного дыма, он чуть наклонился к Жукову и, притронувшись мундштуком трубки к его плечу, кажется, заглянул в самую душу. Этот пронизывающий взгляд показался Георгию Константиновичу нестерпимо долгим. Шевельнулось в глубине сердца ощущение виноватости перед Ворошиловым. Но взгляда не отвел от золотистых глаз Сталина и ничем не выразил чувства виноватости… Потом уловил, как под густой проседью усов Сталина промелькнула улыбка, и, не поняв ее значения, внутренне ощетинился, собираясь обосновать свою оценку деятельности Кулика. Но вопросов больше не последовало. На прощание ему все горячо и почтительно пожимали руку.