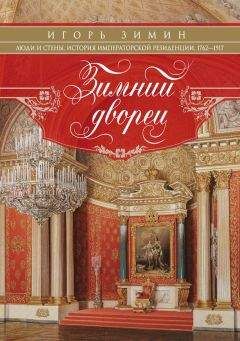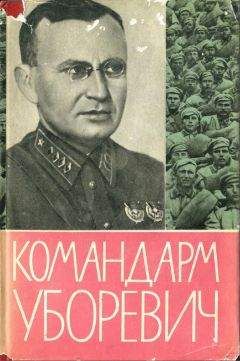Внизу было напечатано: «читал», и я расписался.
Еще до революции большевики требовали у царского правительства суда «правого, скорого и справедливого». Размышляя об этом, можно было только грустно улыбнуться. Однако надо быть объективным, требование в скорости советским судом иногда выполняется: так, например, в 1937 году потребовалось всего двенадцать дней, в течение которых маршалу Тухачевскому и его соратникам была определена мера наказания – расстрел, и приговор приведен в исполнение немедленно. Прошло более сорока лет, и нигде и ни разу не были опубликованы материалы процесса по делу Тухачевского. Что это значит? Только одно – никаких материалов не было...
После подписания 206-й статьи мне осталось ждать суда Военного трибунала, выслушать приговор и приготовиться… К чему? К расстрелу? Но смертная казнь у нас временно отменена, хотя Шлык на следствии неоднократно заявлял:
– Подумаешь, отменена! Если найдем нужным – расстреляем безо всякого. Не сомневайтесь...
Когда я подписывал 206-ю статью, не удержался и спросил Очаковского – какой приговор меня ожидает? Очаковский скривил рот в улыбке: «Не могу сказать точно, в пределах от нуля до двадцати пяти лет». Не сказал – до расстрела...
В общем, я сижу по-прежнему в одиночке и жду. Я мог думать что угодно, мечтать о чем угодно, одно я твердо знал: я получу максимальное наказание, и к этому был готов. Мне все надоело, опротивела чудовищная ложь следствия, обвинительное заключение, которое обволакивало меня тягучей, лживой и грязной паутиной... Что меня ждет? Если меня даже не расстреляют, то наверняка зашлют в места, откуда еще никто не возвращался. Наша Родина велика и обширна...
21 декабря мне исполнилось 34 года, а я еще жив. Мне показалось это неплохим предзнаменованием. День своего рождения я встретил особенно быстрыми шагами по диагонали камеры, а вместо праздничного торта съел кусочек черного хлеба, посыпав его осторожно сахаром. И еще я подумал, что в этот же день усатый гений тоже отмечает день рождения, но, наверно, не сыплет на черный хлеб сахарный песок, а может, сыплет?
Прошел еще день, и 23 декабря днем меня вывели из камеры и сначала вниз по железным трапам, потом по бесконечным коридорам с красными дорожками препроводили к какой-то новой двери. Оказалось, это красный уголок МГБ. Слева находилась высокая сцена, но без занавеса, на ней стоял длинный стол, покрытый красной материей. Справа рядов десять простых стульев и, что меня особенно пора зило – на сцене и на стенах я насчитал семь изображений Сталина, а в углу красовался его большой гипсовый бюст на квадратном постаменте. Гений был в полной парадной форме генералиссимуса.
«И этого гения в усах я хотел ухлопать!» – подумал я с содроганием. Боже, что они со мной сделают...
Вслед за мной привели и моего товарища, Сергея Куприянова. Выглядел он ужасно, я с трудом его узнал, и мы с изумлением рассматривали друг друга. Нас посадили рядом, посередине зала, и приставили двух солдат с автоматами. Зал постепенно стал наполняться людьми, правда, только военными, пришли и наши мучители – подполковник Шлык и полковник Очаковский. Они скромно уселись в заднем ряду. Вдруг к нам подошли двое штатских и представились:
– Мы ваши защитники и постараемся помочь вам.
Как жаль, что я забыл их фамилии...
Трое военных поднялись на сцену и уселись за длинный стол. Вскоре к ним присоединился еще один, чином пониже. Военный трибунал в полном составе – три члена и сек ретарь. Где-то, я помню, читал, что Военный трибунал может выносить только два решения: либо расстрел, либо оправдание. Оправдать нас нельзя, значит – что?
– Куприянов, встаньте! Вам предъявлено обвинение по статьям 17-58-8 и 58-10, части 1 и 2, признаете ли вы себя виновным?
– Нет, не признаю.
– Хорошо, сядьте.
– Подсудимый Боровский, вам предъявлено обвинение по статьям 17-58-8, 58-10 часть 1 и по статье 182 часть 4. Признаете себя виновным?
– Частично признаю по статьям 58-10 часть 1 и по 182-й.
– Хорошо, садитесь.
Все три члена трибунала зашелестели бумагами, тома нашего «дела» стали переходить из рук в руки. Как я успел заметить, трибунал без внимания отнесся к нашим показаниям, им было важно знать, что подписали, а так как все лис ты дела были нами подписаны, они успокоились, покивали головами друг другу, пошептались между собой, и главный из них приказал ввести свидетелей.
Первым вошел Н. М. Авербух. Он внимательно посмотрел на нас, и было заметно, что он потрясен нашим видом, он отвел глаза и больше в нашу сторону не взглянул ни разу. Председатель трибунала спросил Авербуха, что он может сказать по делу.
Авербух молчал.
– Ну?! – председатель возвысил голос.
– Боровский очень хорошо работал, – вдруг тихо сказал Авербух.
– Нас это не интересует. Что вы можете сказать про антисоветские высказывания Боровского?
Авербух молчал, челюсть у него тряслась, он побледнел еще больше, мне стало его жаль. Сергей толкнул меня локтем и еле слышно произнес:
– Посадим?
И я вспомнил, как Авербух расхваливал Англию и английский образ жизни, и если бы мы с Сергеем выступили в роли стукачей, десять лет Наум Маркович схватил бы железно.
– Не надо, – сказал тихо я.
Потом ввели Толмачеву, главное лицо в нашем деле. Она посадила нас, в этом мы не сомневались. На вопрос, что ей известно по настоящему делу, она, запинаясь, сказала, что Куприянов был настроен резко антисоветски, но про покушение на Сталина ничего не сказала. Обо мне вообще промолчала.
Слушание дела быстро шло к концу, трибуналу все было ясно. Председатель предоставил слово прокурору. Очаковский встал. Запинаясь и картавя, прокурор произнес несколько фраз, совершенно не связанных и безграмотных, главная мысль его выступления – Куприянов и Боровский классовые враги, отец Куприянова владел большим многоэтажным домом в Петрограде на Полтавской улице, а Боровский родился в дворянской семье, и именно поэтому оба они были настроены резко антисоветски. Про покушение на Сталина прокурор не сказал ни слова – видимо, понимал, как были получены от нас эти показания. Под конец своего нелепого выступления Очаковский заявил, что требует для обоих подсудимых максимального срока наказания – двадцать пять лет заключения в лагерь строгого режима.
Я вздохнул с облегчением – расстрела не потребовал, значит, еще поживем...
– Вот сволочь, удавить мало, – шепнул Сергей мне.
Потом выступили адвокаты. Мой так расшумелся, что я даже за него испугался.
– Что здесь происходит? Военный трибунал судит двух советских специалистов высокой квалификации, прошу трибунал ознакомиться с их характеристиками, а главное, в чем их обвиняют? В покушении на убийство нашего дорогого вождя! Но в материалах дела нет ни одного доказательства, что такое чудовищное преступление действительно замышлялось, что к нему велась хоть какая-то подготовка. Все обвинение построено на собственных показаниях обвиняемых. Товарищ прокурор в своей обвинительной речи так и не смог привести какие-либо доказательства виновнос ти моего подзащитного. Защита ходатайствует о прекращении дела моего подзащитного Боровского и об освобождении его из-под стражи.
«Ну, посадят моего адвоката», – подумал я с огорчением. И где это Татьяна разыскала такого храбреца? И наверно, заплатила кучу денег? Защитник Сергея был более осторожен, но тоже повторил, что в деле нет никаких доказательств виновности его подзащитного, что все обвинение построено на собственных показаниях обвиняемого, что никак не может служить доказательством его вины, он просит дело против его подзащитного прекратить и из-под стражи освободить.
Гуманный Военный трибунал предоставил нам право сказать последнее слово. Сергей встал, коротко сказал, что не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения, и сел.
Я признал себя виновным только по одному пункту 182-й статьи УК РСФСР – незаконное хранение ножика (финки), и сел.
Я посмотрел на белое лицо Авербуха, сидящего около двери на скамеечке, его голова была опущена... Мне стало жаль его, он хорошо ко мне относился, и с ним было легко работать.
Члены Военного трибунала ушли решать нашу судьбу, но скоро вернулись, и нам стало ясно, что приговор написан заранее. Суд был скорым и «справедливым» и приговорил нас обоих к двадцати пяти годам ис правительно-трудовых лагерей строгого режима с кон фискацией имущества и, конечно, с поражением в правах на пять лет. После оглашения приговора все разошлись, остались только мы, наш конвой и молоденький капитан, секретарь трибунала, который что-то писал. Вскоре секретарь трибунала вручил нам выписку из приговора, которая прошла со мной весь мой срок и сейчас покоится в моем архиве. К моему удивлению, больше таких бумаг я ни у кого не встречал.
Наконец за нами пришел вертухай, и мы пошли по длинным коридорам в свои камеры. На одном из поворотов я оглянулся и увидел, что за нами идут оба наши победителя – Шлык и Очаковский. Шли, смотрели нам в спины и победно улыбались.