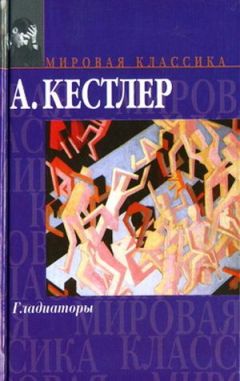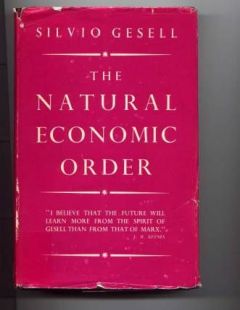Наконец, командующий поднял на него глаза. «Раненый зверь», — подумал Красс и сказал:
— Ты желаешь договориться об условиях сдачи. Условий не будет.
Теперь он не спускал с сидящего раздраженный взгляд. «Приличная форма, меньше печали в глазах, — думал Красс, — и он заткнет за пояс Помпея». Дожидаясь ответа, он приложил к уху ладонь.
— Ты что-то сказал?
Спартак был покорен изящной латынью командующего. На столе стояла маленькая квадратная чернильница из граненого стекла с дырками со всех сторон, из которых не вытекали чернила. Ковры на полу и на стенах поглощали все звуки, доносящиеся извне. Покой в шатре отличался от знакомой ему ночной тишины гор: этот покой был мягким и уютным, как диван, на котором он сейчас отдыхал. Ему оказалось нелегко вспомнить, что слова, произнесенные среди этих ковров, решат судьбу двадцати тысяч живых людей и всего италийского восстания.
— Мое правое ухо недослышит, — признался командующий на все той же безупречной латыни. — Если тебе есть что сказать, говори отчетливо.
Спартак по-прежнему молчал, разглядывая стол. Облака, укутывавшие гору Везувий, пророческие словеса старого массажиста, хриплые разглагольствования маленького защитника — все это сделалось в шатре нереальным, все вобрала в себя маленькая граненая чернильница. Главным здесь была тишина. Вид командующего, приложившего пухлую ладонь к уху, был кляксой, замазывающей все, что думалось и говорилось там, за рвом.
— Тебе известно наше положение, — заговорил Спартак. — От гибели двадцати тысяч человек никто не выиграет.
Красс чуть заметно пожал плечами. Он по-прежнему думал о том, как выглядел бы и вел себя Помпей на месте его собеседника. Возможно, тот смотрелся бы еще более жалким, этот варвар, по крайней мере, не ломает комедию. Надо полагать, таким же низким голосом, с таким же фракийским акцентом он отдает приказания своим сообщникам, сидя в седле. Крассу было нетрудно представить его совершающим победный въезд в Рим, бесстрастно взирающим из-под триумфальной арки на ликующую толпу. Все зависит от того, в какое время приходит человек в мир, думал Красс. Время может толкнуть его в кучу отбросов, а может сделать творцом истории. Родись этот раненый зверь веком раньше или веком позже — и он сумел бы перевернуть мир, заткнув за пояс Александра и Ганнибала.
— Иными словами, вы безоговорочно капитулируете, — сказал Красс.
— Это зависит от того, что произойдет с моими людьми, — сказал Спартак.
— Решение примет римский сенат.
Спартак немного помолчал, потом проговорил:
— Речь не о вожаках, а о рядовых и о женщинах.
— Извини, — сказал Красс. — Мы толкуем здесь о безоговорочной капитуляции. Все остальное во власти сената.
Спартак молчал, сверля взглядом дыру в граненой чернильнице. Их разговор все еще казался ему нереальным. Почему из шести дыр в чернильнице не выливаются чернила? Потом он разглядел внутри стеклянного куба маленький сосуд, опирающийся на обод; как ни повернуть куб, сосуд принимал горизонтальное положение. Спартаку было приятно, что он разгадал загадку. Он улыбнулся.
Двое ординарцев принесли вино, кубки, финики в сахаре, сушеные фрукты, оставили все это на низком трехногом столике и удалились.
Проследив взгляд Спартака, Красс взял чернильницу и наклонил ее. Он, в отличие от гостя, не улыбался.
— Видел когда-нибудь что-то подобное?
— Нет, не видел.
Красс протянул ему чернильницу. Спартак повертел ее, наклонил так и эдак и поставил на стол.
— Вот наши условия: рабы могут вернуться на места прежней службы, не опасаясь наказания, остальные вступают в твою армию.
Красс опять пожал плечами.
— Изволишь шутить? Наверное, ты плохо разбираешься в римском военном праве. И потом, такие решения принимает только сенат. В моих силах только рекомендовать ему проявить снисхождение.
Спартак покачал головой.
— В таком случае мне придется уйти. Наше условие: мы расходимся, все становится, как было прежде. Но сначала тебе придется отвести армию, чтобы мы не попали в ловушку.
Красс отпил вина, отправил в рот горсть сухих фруктов. Он предвидел, что переговоры не принесут результата, и согласился на встречу в основном из любопытства. В его власти было приказать арестовать человека в шкурах и немедленно его вздернуть; однако победа была ему обеспечена в любом случае, и ему не хотелось превращаться в мишень для оппозиционных трибунов. Он указал жестом толстой короткой руки на второй кубок.
— Боишься яда? — спросил он без тени улыбки.
Спартак покачал головой. Его мучила жажда, и он осушил кубок одним глотком. Вино оказалось сладким, густым, крепким — такого он никогда не пробовал. Тишина в шатре становилась невыносимой.
— Условия касаются только рядовых и женщин, — проговорил он. — На вожаков они не распространяются.
— Понимаю, — сказал Красс, медленно пережевывая финики. — Трогательный замысел: вожаки приносят себя в жертву, спасая остальных и надеясь на памятные надгробия с прочувственными надписями от имени сената. Странное у тебя представление о временах, в которые мы живем.
Спартак выпил второй кубок. Ему было странно, что этот жирный полководец мирно судачит с ним на своей отменной латыни, пожевывая сухие фрукты. Надо полагать, язвительный лысый защитник использовал для его портрета многовато черной краски.
Красс поглядывал на человека в шкурах, как привык поглядывать на Катона во время их обеденных споров. У него даже появилось желание развить тему.
— Что вы вообще знаете о нашем времени? В революции вы — дилетанты. Вам приспичило отменить рабство, но вы даже не подумали о том, что в таком случае пришлось бы закрыть все каменоломни и рудники, отказаться от строительства дорог, мостов, акведуков, поставить крест на морской торговле и всех перевозках, вообще низвести мир до уровня первобытного варварства. Ибо слово «свобода» наделено для современного человека единственным смыслом: не работать. Если бы ваши намерения были серьезны, вам бы пришлось изобрести новую религию, делающую из труда культ и объявляющую горький пот амброзией. Извольте тогда провозгласить рытье рвов и починку дорог, пиление досок и греблю на галерах судьбой и главным достоинством человечества, а праздность и ленивое созерцание заклеймить как презренные и наказуемые пороки. Вопреки опыту, накопленному человечеством, вам пришлось бы кричать на всех углах, что нищета — благословенное состояние, а достаток — проклятие. Ленивые и беспутные боги Олимпа были бы свергнуты с тронов, а их места заняли бы новые боги, отвечающие вашим целям и интересам. Но ничего этого вы не потрудились осуществить. Ваш Город Солнца погиб, потому что вы не смогли создать нового бога и призвать ему на поклонение новых жрецов.
Спартак покачал головой.
— Все жрецы и пророки — мошенники, — молвил он. — Нам они были без надобности, и все равно к нам примкнули многие тысячи. Сам знаешь, среди них не только рабы, но и крестьяне, согнанные богатыми землевладельцами с наделов. Крестьянам и мелким арендаторам нужна не новая религия, а земля.
— Извини, — сказал Красс. — Опять ты не полностью прослеживаешь связь между причиной и следствием. Почему, по-твоему, италийское крестьянство позволило олигархам скупить земли и оторвать его от корней? Не потому, конечно, что крестьяне — невинные овечки, как ты утверждаешь, а потому, что завоз зерна из-за морей так сбивает цену, что выжить способны только крупные землевладельцы. Если доводить все это до логического завершения, то вы должны были бы потребовать, чтобы Рим отказался от своих колоний, чтобы замерла мировая торговля, чтобы Земля сжалась до размера горсти, чтобы остановился всякий прогресс. Так что все ваши любительские потуги делать реформы, начиная с Гракхов, по сути ультрареакционны. Пока не изобретен новый бог, пока не заявлено, что варварские народы ровня нам, пока их не заставят производить по той же цене, что и мы, — до тех пор истинными поборниками прогресса остаются, невзирая ни на что, те две тысячи римских аристократов и бездельников, которые заставляют горбатиться на них весь остальной мир, однако благоприятствуют прогрессу, хоть и не знают, как это у них выходит. И так будет продолжаться до тех пор, пока раздувшееся брюхо нашего государства не лопнет и всех нас не приберет дьявол.
Закончив свою тираду, Красс с довольным сопением приложил к уху ладонь, чтобы выслушать возражения. Но Спартаку нечего было ответить; он даже сомневался, что, окажись на его месте благочестивый массажист или ловкий стряпчий, они нашли бы в речах Красса изъян. Он вдруг понял, что его условия отклонены, что его люди находятся в безвыходном положении, и в нем вскипела бессильная ярость. Зачем он превратился в почтительного ученика, внимающего снисходительным наставлениям, почему не ушел, как только стало ясно, что переговоры провалились?