Тем не менее воспоминания о галльском нашествии оставались свежими даже по прошествии трех столетий. Каждый год в городе распинали сторожевого пса в качестве посмертного наказания тем собакам, которые не залаяли при нападении на Капитолий, в то время как гусей Юноны, в качестве воздаяния за данное их предками предупреждение, приносили понаблюдать за этим спектаклем на пурпурных, шитых золотом подушках. Более практичной мерой являлось учреждение вспомогательного фонда, который можно было использовать лишь в случае второго вторжения варваров. Даже тогда, когда Республика стала сверхдержавой, эта мера продолжала считаться вполне разумной. Когда люди жили не как граждане, а почти как дикие звери, никто не мог сказать, в какой форме обнаружится их варварство. Народ Республики помнил о том, как племя лишенных человеческого облика чудовищ-великанов, числом в целые триста тысяч, вдруг нагрянуло на город, придя от самого ледяного края мира, из северных пустынь, уничтожая все на своем пути. Мужчины этого племени ели сырое мясо; женщины нападали на легионеров с голыми руками. Если бы Марий в двух блестящих победах не уничтожил захватчиков, тогда Риму да и всему миру вместе с ним пришел бы конец.
Шрамы подобного масштаба сглаживаются не скоро. Так что не стоит удивляться тому, что большинство граждан, услышав о поражении гельветов, ни в малой степени не беспокоились о том, что при этом могли оказаться нарушенными какие-то законы. В конце концов, разве может быть возложена на проконсула более важная обязанность, чем обеспечение безопасности Рима? Цезарь безупречно отвергал обвинения в охоте за славой. Речь шла о безопасности его провинции и всей Италии в целом. Пока за римской границей обретаются беспокойные племена, в невежестве своем отвергающие правила цивилизованного поведения, опасность не исчезает. Благодаря этому логическому ходу, привычному для многих поколений римлян, нападение на гельветов можно было считать актом самозащиты, как и всю начатую Цезарем кампанию, — ибо, отправив гельветов назад в родное им отечество, исполнять роль буфера между германцами и его провинцией, он отправился на восток, разбираться с самими германцами. Тот факт, что королю этого племени был дарован официальный титул «друга римского народа», не имел для Цезаря никакого значения. Германцев успешно спровоцировали на битву, победили, а потом загнали обратно за Рейн. Там, в мрачных и сырых лесах, им и полагалось обретаться, но только не возле провинции Цезаря — и только не в Галлии.
Об обеих Галлиях помалкивали. Зимой 58–57 гг. до Р.Х. вместо того чтобы вернуть свои легионы назад в провинцию, Цезарь оставил их зимовать в сотне миль к северу от границы, в глубине территории предположительно независимого племени. И снова незаконная мера была оправдана проконсулом как акт предупредительной обороны. Такой аргумент, возможно, и удовлетворил общественное мнение в Риме, однако ничем не мог успокоить возмущение, охватившее Галлию. Соседи только начинали осознавать всю полноту последствий новой политики Цезаря. Какую именно границу сочтут римляне пригодной для обороны? Если на востоке ею станет Рейн, то почему им не установить ее по проливу, отделяющему на севере Британские острова от континента, или по берегу Атлантики на западе? Над замерзшими лесами и полями, из деревни в деревню, из дома вождя в дом вождя переносился один и тот же слух: римляне намереваются «умиротворить всю Галлию».[183] Воины начищали свои богато украшенные щиты, юноши, стремившиеся доказать свою пригодность к бою, в полном вооружении вброд переходили подернувшиеся коркой льда ручьи, соперничавшие племена стремились урегулировать разногласия. Свободная Галлия готовилась к войне.
Так же как и Цезарь. Он был не тем человеком, который мог бы потерпеть антиримскую коалицию. Ему было безразлично, имеет ли он дело с побежденным племенем или со свободным: Республика требовала почтения к себе, а долг чести возлагал исполнение этого требования на проконсула. Заставив Галлию возмутиться, Цезарь считал теперь полностью оправданным и ее разгром. В ту зиму он набрал еще два легиона. Собственным решением, не запрашивая мнения Сената, он уже удвоил число войск, первоначально приписанных к его провинции. Когда зима сменилась весной и Цезарь оставил свой лагерь, он имел при себе армию из восьми легионов, то есть примерно сорок тысяч человек.
Ему потребуется каждый легионер. Выступая на север, Цезарь вторгался на территорию, где еще никогда не было римских войск. Зловещий край этот населяли призраки, от него исходил запах грязи и смерти. Путешественники рассказывали о странных жертвоприношениях, совершавшихся на уединенных, окруженных дубами полянах или возле черных и бездонных озер. Рассказывали, что иногда ночной мрак там озаряло пламя, вспыхнувшее на плетеных фигурах, изображавших великанов, чьи члены и чревеса наполнялись узниками, корчившимися в муках ужасной смерти. Обычаи галлов были отвратительными и варварскими даже на пирах, которыми славилась эта страна. Вездесущий Посидоний, проехавший через Галлию в 90-х годах до Р.Х., делая заметки в каждом месте, где он останавливался, отмечал, что из-за лучших кусков мяса постоянно случались поединки, и что даже тогда, когда воины наконец приступали к пиру, они не ложились, чтобы поесть, как это делают цивилизованные люди, но садились возле столов, и с их вислых усов капали сок и жир. За сценами обжорства мертвыми глазами наблюдали отрубленные головы врагов, Надетые на колья или пристроенные в нишах, они являли зрелище еще более гнусное, чем чревоугодие. Впрочем, головы врагов были в деревнях галлов настолько распространенным украшением, что Посидоний, по его собственному признанию, даже почти привык к ним к концу путешествия.[184]
Легионерам, шагавшим все дальше и дальше на север по неровным извилистым тропам, тревожно вглядывавшимся в бесконечный полог лесов, должно быть, казалось, что они вступают в царство беспредельной тьмы. Вот почему на своих плечах, помимо копий, они также несли и шесты. Лагерь, который они ставили после дневного перехода, ночь за ночью, день за днем, выглядел всегда одинаково и обеспечивал солдатам Рима не только безопасность, но и память о цивилизации и доме. Всякий раз посреди варварского мира устраивался форум и две прямые улицы. Часовые, вглядывавшиеся в черноту за палисадами, могли утешать себя тем, что во всяком случае за спинами их находится кусок чужой земли, на короткое время превратившейся в Рим.
Тем не менее то, что казалось легионерам откровенным варварством, было уже «процежено» через интеллект Цезаря. Полководец в точности знал, куда направляется, — и действовал отнюдь не наугад. Возможно, Цезарь первым повел римские легионы через эту границу, однако италийцы не одно десятилетие бродили по галльской глуши. Во II веке до Р.Х., после размещения постоянных римских гарнизонов на юге страны, уроженцы провинции начали приобретать вкус к порокам своих победителей. Один из них, в частности, непосредственно ударял в голову: это было вино. Галлы, никогда прежде не употреблявшие этого напитка, не имели ни малейшего представления о том, как это следует правильно делать. Не разбавляя вино водой, как это делали римляне, галлы предпочитали употреблять его в натуральном виде, устраивая попойки, «заканчивавшиеся таким опьянением, что они либо засыпали, либо теряли рассудок».[185] Торговцы, находившие такую манеру винопития в высшей степени выгодной для себя, начали распространять ее так широко, как только могли это сделать в своих далеких путешествиях за пределами римской провинции, пока, наконец, вся Галлия не приобщилась к пьянству. Естественно, располагая сложившимся рынком алкоголиков, торговцы начали взвинчивать цены. Поскольку прибыль их зависела от племен, не располагавших собственными виноградниками, Сенат, всегда бойко соображавший, когда речь заходила о снятии шкуры с иноземцев, запретил продажу лоз «заальпийским племенам».[186] Ко времени Цезаря обменная цена установилась на уровне одного раба за одну амфору вина; это сулило итальянцам сказочные доходы в экспортно-импортном бизнесе. Раба можно было продать за значительно большую цену, а дополнительная рабочая сила, поступавшая в распоряжение римских виноградарей, позволяла им производить еще большее количество вина. Этот эффективный обмен удовлетворял всех — за исключением, конечно, рабов. Галлия пьянствовала, купцы богатели.
Цезарь, решивший, что сможет победить столь просторную, воинственную и независимую страну, как Галлия, превосходно понимал, чем он обязан итальянским экспортерам. Так что они не только обеспечивали его шпионами. Германцы, увидев результаты воздействия вина на галлов, зашли настолько далеко, что «запретили ввоз его в собственную страну, так как, по их мнению, вино делает мужчин слабыми».[187] Кстати — и раздражительными. Галльские вожди ценили вино выше золота. Племена непрестанно нападали друг на друга, чтобы добыть рабов, обескровливая страну своими набегами, порождая дикие, глупые раздоры. Все это делало их легкой добычей для такого человека, как Цезарь. Он остался невозмутимым, даже когда лазутчики донесли ему весть о том, что против него собрано ополчение в 240 000 человек. И это несмотря на то, что племена, встречавшиеся на его пути принадлежали к народу белгов, который, благодаря тому, что «являлся самым отдаленным от цивилизации и роскоши римской провинции, менее часто посещался купцами, ввозившими товары, приводящие к изнеженности»,[188] считался наиболее отважным во всей Галлии. Цезарь нанес им тяжелый удар, со всей стальной мощью, на которую был способен. Чем дальше на север он продвигался, тем более шатким становился союз белгов. К подчинившимся племенам проявлялась подчеркнутая снисходительность. Сопротивлявшихся уничтожали. Орлы Цезаря стали на берегу Северного моря. И там гонцы принесли ему весть от Публия Красса, энергичного и молодого сына триумвира, оповещавшего о том, что вверенный ему легион подчинил себе все племена на западе Галлии. «Мир, — писал, торжествуя, Цезарь, — принесен всей Галлии».[189]
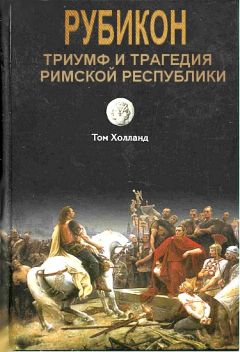
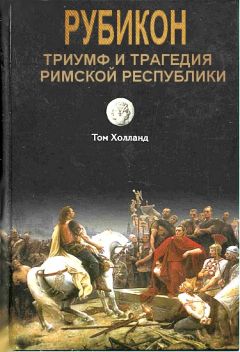


![Дана Белл - Стальная красота [ любительский перевод]](https://cdn.my-library.info/books/151362/151362.jpg)
