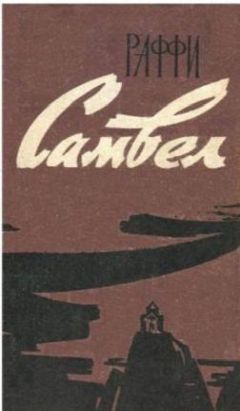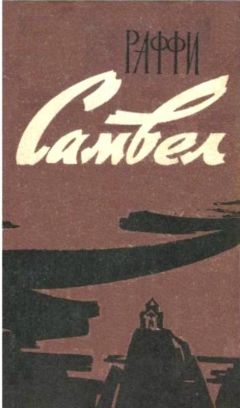У добродушного Мани нашлось и вино. Когда ужин был готов, он отошел в угол шалаша, разрыл пальцами землю и вынул закупоренный глиняный кувшин.
— Я всегда, тер сепух, держу вино в земле, там оно и холоднее и не киснет.
Меружан предложил пастуху сесть вместе с ним за ужин, на что Мани согласился после долгих упрашиваний, сказав: «Много чести будет мне, тер сепух. Ну да пусть и старик Мани похвастается перед людьми, что раз в жизни с сепухом ужинал».
Он сел и поставил перед собой кувшин с вином.
Первую чашу Меружан опорожнил залпом до последней капли. Заметив это, Мани подбодрился и стал сам пить, все чаще поднося чашу гостю. Когда оба они порядочно выпили, пастух обратился к гостю:
— Расскажи мне, тер сепух, что тебе известно о Меружане. Ты человек большой, знаешь о хорошем и плохом, а мы — люди маленькие и не знаем, что где делается. Неужто правда то, что о нем болтают?
— Что же о нем говорят?
— Да как тебе сказать?.. Тебе лучше знать, тер сепух!.. Язык не поворачивается, чтоб сказать…
— Видишь ли, любезный Мани, мне тоже не все известно. Многое говорят… Но кому верить? Знаю только, что Меружан скоро возвратится и, верно, будет царем Армении.
Морщинистое лицо пастуха приняло угрюмое выражение. Последние слова, вместо того чтобы обрадовать его, — ведь его господин и князь будет царем, — огорчили его.
— Не ладно это — сказал он печальным голосом, — Это против божьей воли. Царь должен быть царем, а князь — князем. Бог покарал бы меня, если бы я вздумал стать Меружаном. Я его пастух и должен быть доволен своей судьбой.
— Но ведь предки Меружана были тоже царями, — возразил гость.
— Я не знаю, были или нет. Может, и были… Только чего ему еще не хватает по сравнению с царем? Ведь он владыка в своей стране. От Аракса до Вана — везде его земли. Разве у царя Аршака найдется столько земель? Я много странствовал, тер сепух, и видел много стран. Видел табуны лошадей Аршака, видел и стада его овец, но ведь они не составят не только половины, но и четверти наших. Видел горы, где охотился царь Аршак, видел его пастбища; опять-таки скажу — не равняться ему с нами! Не пойму, чего недостает Меружану, зачем он идет против воли божьей? Зачем он берет грех на душу и навлекает беду на свою страну? Горестно все это, очень горестно, тер сепух… Будем надеяться на бога, пусть он предотвратит зло и сотворит благо.
С этими словами старик налил себе вина и, подняв глаза к небу, опорожнил чашу, произнося молитву, точно желая угасить пылающее пламя в своем сердце.
Меружан расчувствовался. В нем глухо заговорили угрызения совести.
Мани наполнил чашу и предложил ее гостю со словами:
— Выпей и ты, тер сепух, и попроси бога отвратить зло, сотворить благо. Меружан ведь как мой, так и твой господин. Я его смиренный пастух, ты же его знатный вельможа. Помолимся за нашего князя. Всевышний услышит нашу молитву.
Меружан принял чашу дрожащей рукой, оставаясь в нерешительности. Он должен был молиться за свои грехи, молиться тому богу, от которого он всенародно отрекся, дав клятву перед троном Шапуха. Он должен был молиться о том, чтобы бог отвратил его от злого пути. Он должен был каяться на своем языке. Но с какой душой? Не признаваясь в грехах, без душевного примирения! Лицемерием было бы такое покаяние! После долгого колебания он все же повторил слова пастуха и осушил чашу…
Меружан тут же закончил трапезу.
Пастух заметил его волнение и спросил участливо:
— Видно, ты сильно устал с дороги, тер сепух? Сейчас приготовлю тебе постель. Самое лучшее средство от усталости — это сладкий сон. Постель будет не роскошная, но зато спокойная. Возьми мою накидку, завернись в нее и засни. А под голову положи вот этот мешок, набитый травою. Она куда мягче пуха!
Меружан поблагодарил пастуха за его заботы и сказал:
— Ночь прекрасна, Мани, чудесная луна перебила мой сон. А твое вино меня взбудоражило. Хочется немного погулять, рассеять волнения души. Проводи меня, любезный Мани, а то собаки не пропустят меня.
Меружан встал. Пастух взял палку, пошел вперед и спросил князя, куда он желает идти.
— В горы, — ответил князь.
Они прошли мимо спокойно лежавших собак и приблизились к подножию горы.
— Оставь меня одного, добрый Мани, — сказал Меружан. — Я немного поброжу, затем сяду на какую-нибудь скалу и с ее высоты полюбуюсь на луну, послушаю сладостное журчание горного ручья.
Наивный Мани был немало изумлен возбужденным состоянием гостя, впавшего в такую восторженность. Он объяснял столь неожиданную перемену действием вина. «Кто знает, какие неведомые чувства взволновали его сердце» — подумал пастух. Оставляя гостя в одиночестве, он передал ему свирель, сказав:
— Будь здесь, тер сепух, сколько твоей душе угодно, и наслаждайся сладостью ночной прохлады. Когда захочешь вернуться, заиграй на свирели, — я услышу, приду за тобой и проведу в шалаш. Ведь собаки у нас злые, тер сепух.
— Спасибо, добрый Мани, — сказал Меружан, взяв у него свирель.
Пастух ушел.
Меружан остался один. Долго он блуждал у подножья горы, не находя себе успокоения; им овладела та отчаянная грусть, которая приводит человека в оцепенение. Никогда его могучая воля не была так бессильна, как в эту ночь; никогда его безудержная самонадеянность не была так поколеблена, как теперь. Он прислонился к скале и замер. Он всматривался в окружающий мрак, слегка освещенный тусклым светом луны. Вглядывался в унылое небо, покрытое темными облаками. Луна то пряталась за ними, то показывалась снова, и вслед за нею вся окрестность то освещалась, то снова погружалась в ночную тьму. Так и в душе его то ярко вспыхивали надежды, то снова все тонуло во мраке полной неизвестности.
Устал он! Устал душою и телом. Он присел на скалу. Крохотный кусочек его обширного княжества, где он сидел как беглец, как изгнанник, не имевший твердой почвы под нотами на собственной же земле! Он вспомнил печальные события прошедшего дня, вспомнил мучительные слова своей матери и молитву пастуха, и его сердце облилось кровью…
Он сошел со скалы, остановился и, обратив к небу гневное лицо, воскликнул:
— Что толкнуло меня на этот несчастный путь? Честолюбие?.. Нет! Тысячу раз нет! Престол, корона и скипетр Армении, обещанные мне Шапухом, не могли меня соблазнить, не могли превратить в бесчестное орудие персидского царя! Я не так подл и не так бездушен, чтобы попрать свои священные обязанности и восстать против своего царя! Я предпочел бы скорее смерть, чем черное клеймо изменника! Но что же толкнуло меня на этот печальный путь? Неудержимая жажда мести, неутолимая жажда крови? Опять-таки нет! Правда, мои предки и весь мой род были обречены мечу и беспощадно перебиты аршакидскими царями. Правда, с самого детства я горел желанием отомстить врагу и таким путем примириться с тенями моих предков, преследовавших меня каждую минуту, каждый миг. Но я был далек от того, чтобы ради кровавой мести уничтожить династию Аршакидов и утвердить на обломках их царства свой предательски захваченный трон. Почему же обрушились на меня эти несчастья? Что заставило меня отречься от моего бога, от родной религии, от всего, что было свято для меня, и принять религию Зороастра? Что умертвило мою веру, что задушило во мне священные чувства к моему народу? Только ты, о Вормиздухт! Только любовь к тебе, о Вормиздухт!
Произнося это имя, он опустился на колени, точно поклонялся какой-то небесной богине.
— Я люблю тебя, Вормиздухт, до безумия люблю… Об этом знал твой царственный брат и воспользовался моей слабостью. Он обещал мне множество наград, все, что может принести человеку слава и благополучие, но не сумел сломить мою верность родине и царю. Он добился своего только обещанием отдать мне тебя и отнял у меня все, что было свято для меня, что было мне дорого. Я согласился исполнить самые гнусные его желания, только бы получить Вормиздухт!
Несколько минут он молчал, горячие слезы текли из его глаз, и глухое раскаяние терзало его сердце.
— Люблю… не могу побороть в себе эту любовь! — сказал он и вскочил с места.
Он снова вознес взор к небесам и, подняв руки к небу, воскликнул:
— О великий боже! Укажи мне, о боже, тот сосуд, где хранятся животворящие капли любви, и я разобью, раскрошу этот сосуд, ибо в нем заключены все мои несчастья. Почему ты, о боже, влил в меня этот яд, почему воспламенил мое сердце этим неугасимым огнем? Не будь любви к женщине, во век не будь ее, я был бы счастлив. Любовь толкнула меня на позорное дело. Ради любви я совершил и готов совершить адские деяния… Я слаб и немощен, о господи! Только твоя могучая рука может умертвить во мне любовь! Молю тебя, преврати мое сердце в голую пустыню, чтобы в ней увяли все страсти!
Он внезапно умолк. Слезы снова хлынули из его глаз. Сильная буря страстей охватила его. Долго он так терзался, потом, как безумный, положил руку на горячий лоб и заговорил дрожащим голосом: