Дома Федор Афанасьевич объявил: гуляем!
— С чего бы? — недоверчиво хмыкнул Балашов.
— Есть причина, Семен, огромная причина! — Афанасьев обнял Елизавету Балашову, попытался кружить ее, но от непосилья охнул, схватился за сердце.
— Словно дите малое, — недовольно сказал Семен, подавая воду. — Гулеван нашелся…
Переждав острую боль, Федор Афанасьевич упрямо потребовал:
— Ставь самовар! Сходи, Лиза… Чаю наилучшего, сардинок купи, сыру. Баранок прихвати. Гулять так гулять!
Когда Елизавета вернулась из лавки, Семен, обычно сдержанный, кинулся к ней, поцеловал:
— Лизуха, забастовки позволены!
Весело возбужденные, собирали на стол. Афанасьев долго собирался с мыслями, но никаких особенных слов не придумал, улыбнулся:
— Ладно, чего там… Кончился валтасаров пир капитала, наступает наш черед. Мы теперь покажем, как надо бастовать, всеобщую сообразим…
В тот же вечер, оповестив, кого успели, сошлись на конспиративной квартире в Боголюбской слободе. Объявив важную новость, Афанасьев сказал:
— Нынче, товарищи, самое важное — заняться разъяснением. Не надейтесь, что рабочие без нашей помощи подавят в себе страх и сразу выйдут с фабрик. Сколько лет мордовали… Теперь надобно долбить в одну точку: что было, то прошло, никто не посмеет тронуть…
— А может, наврали в газетке-то? — негромко спросил Дунаев. — Начнем забастовку, а нас сызнова, как в январе, излупцуют.
— Вот видите?! — Федор Афанасьевич ткнул пальцем в его сторону. — Вот вам пример… Чего говорить о прочих, ежели наш Евлампий, в тюрьме побывавший, ссылку отбывший, и тот побаивается? Это как раз и показывает, что ждет нас нелегкая работа. — Афанасьев достал из внутреннего кармана пиджака еще несколько газет. — Нет, товарищи, сообщение верное. Об этом же написали «Биржевые ведомости» и «Северный край». Стало быть, сейчас, перед Нижегородской ярмаркой, самое времечко подымать народ на всеобщую. Хозяева на ярмарку товар готовят, упорствовать особо не станут, быстренько обломаем… Разъясняйте людям, разъясняйте! А покамест составим требования, обсудим, утвердим на партийной конференции. И вот еще что… Надобно связаться с Московским комитетом, попросить агитаторов. Пускай пришлют несколько человек…
— Я могу, — искательно произнес Андрей Бубнов опять появившийся в городе. — Поручите мне!
Афанасьев обвел присутствующих медленным взглядом, не обнаружив возражения, кивнул:
— Хорошо, поручаем… — Поманил к столу Уткина: Выходи на свет, поведай, что успел.
Иван придвинулся с табуретом, пощипал усики:
— Так что боевую дружину, можно сказать, укрепили. Ребята собрались бравые, Васька Морозов, зубковский слесарь, ну и другие…
— Морозова знаю, — одобрил Семен Балашов, — кулачник был знаменитый.
— Да уж, этот не потерпит, чтоб аркан на шею набросили, — подковырнул Дунаев.
Уткин вспыхнул:
— А револьвер какой был, ты знаешь? Знаешь! Из него воробья не свалишь, не то что Кожеловского!
— Будя, будя, — Афанасьев притушил разгоравшиеся страсти. — Скажем спасибо, что за тот выстрел тюрьмой не пострадал…
— А в самом деле, как это его не посадили? — недоуменно спросил Бубнов. — Я думал — навсегда прощай, а приезжаю — вот он, Ваня, целехонек.
— Кто стрелял, они точно не знали, — остывая, рассказывал Уткин. — Кличку с фамилией перепутали… Какая-то сволочь шепнула — Станко палил, ну и прицепились, вы, дескать, Станков? А у меня паспорт при себе. Ошиблись, говорю, от рождения Уткин. Куда деваться, через три дня отпустили…
— Ладно, ребятки, это — прошлое, — прервал Федор Афанасьевич. — Давай, Ваня, получше учи своих дружинников. Понапрасну палить не будем, но уж коли придется, чтоб не обмишурились… Все, товарищи, расходимся помаленьку. Следующий раз встречаемся на конференции, число сообщим…
Девятого мая чуть свет организаторы городских районов и делегаты фабричных ячеек собирались на партийную конференцию в лесу за деревней Поповское. Сторонясь чужаков, тянулись к назначенному месту проселками, потаенными тропами. Некоторые шли прямо с ночной смены: в промасленных робах, с неотмытой краской на лицах, усталые.
Федор Афанасьевич почти не сомкнул глаз, намереваясь явиться раньше всех, чтобы самолично встретить и расставить дружину Ивана Уткина для охраны. И ведь не проспал, разбудил Балашова еще потемну, торопил, приговаривая: «В лесу умоешься, из родничка…» Однако же, получилось, замешкались в пути. Не рассчитал силенок, выдохся на третьей версте. И теперь, ковыляя за быстроногим Странником, стеснялся своей немочи: «Иди, Семен, не дожидайся. Я доплетусь». Балашов фыркал в усы: «Еще чего выдумай. Так и брошу одного… Поспеем, без нас не начнут». Афанасьев от этих слов страдал еще больше. Семен думал, что успокаивает старого товарища, а Федор Афапасьевич еще больше страдал, понимая, что опаздывает, а без них действительно конференция не начнется.
Но, как часто бывает, несчастье помогло. То есть, может быть, и не случилось бы провала, может, встретившиеся мужики и не донесли бы о подозрительном скоплении людей в лесной глухомани, но вполне могли и донести, такое бывало.
Они встретились на сухом болотце, куда сходились две дорожки, а дальше петляла одна — как раз в том направлении, где собирались подпольщики. Остановились, настороженно посматривая на незнакомых путников. У одного из мужиков, кривоногого, в холщовой рубахе распояской, в руке топор; он подбросил его, ловчее перехватив. Семен свернул с тропки, сделал несколько шагов по мягкому моховому ковру:
— Кто такие?
— Черновские, — угрюмо ответил кривоногий.
— Куда прете? — голос Балашова звучал грозно.
— А тебе чего?
— Коли спрашивают, говори!
— За хворостом мы, за хворостом! — зачастил другой мужик, с веревкой на плече. — Из Черновки!
— Дальше проходу нет! — Балашов махнул рукой, словно отрезая путь в глубину леса. — Хворосту и тут наберете!
— Ишь ты, прыткий, — кривоногий снова перехватил топор. — Вы что же, из начальства будете?
Семен беспомощно оглянулся на Афанасьева: упрямые попались. Федор Афанасьевич укоризненно качнул головой, выдвинулся внеред:
— Нас в понятые взяли, — сказал внушающе. — Здесь преступников ловят, царевых супостатов… Ступайте домой, покамест не вляпались.
Мужик с веревкой испуганно нерекрестился:
— Господи помилуй… Попадешься — не расхлебаешь. Бог с ним, с хворостом, айда, Михаила, обратно!
Кривоногий с досадой плюнул на тропинку, но перечить не стал: повернулись и скрылись за молодым ельником. Семен Балашов восхищенно крякнул:
— Хитер же ты, Афанасьич! Ох, хитер. Моментом сообразил — понятые…
Афанасьев улыбнулся в бороду:
— На испуг нынче мало кого возьмешь. Умственно надо…
Настроение Федора Афанасьевича улучшилось: не везде молодые-то верх берут, годятся еще и старые кони.
На лужайке собралось человек пятьдесят, когда, наконец, объявился секретарь партийной организации. Увидев между деревьями Ивана Уткина, делегата от фабрики Полушина и начальника боевой дружины, первым делом к нему:
— Как думаешь, полиция не помешает? Не пронюхали?
Иван пожал плечами:
— Думаю, обойдется. Конспирация соблюдена.
— Конспирация, конспирация, — проворчал Афанасьев, — а неизвестно, кто в лесу шныряет. По всем тропкам поставь людей, пускай говорят: облава в округе… Федор Самойлов пришел?
— Давно здесь. И Анна Смелова, и Дунаев… А вас. Отец, Бубнов искал.
— Где он?
— Во-он в тех кустиках хоронится. Какой-то приезжий с ним…
— Пойдем поглядим.
Андрей вышел навстречу из зарослей, за ним — коренастый парень, стриженный бобриком:
— Познакомься, Отец. Это Трифоныч, послан из Москвы.
— А чегой-то вы, молодые люди, от народа прячетесь? — Федор Афанасьевич ощутил крепкое рукопожатие, вглядываясь в румяное лицо Трифоныча. — Неужто оробел, товарищ?
— Оробеть не оробел, а лучше, если вы представите, — сказал приезжий и улыбнулся — открыто, славно так улыбнулся.
— Ну, хорошо. На постой определим к Станко, — взглянул на Уткина. — Головой отвечаешь… Пойдемте, товарищи, пора начинать.
Открывая собрание, Афанасьев сказал:
— За нами десятки тысяч рабочих. Надобно подымать народ на решительную борьбу. Давайте послушаем делегатов, узнаем, чего хотят добиться от хозяев… Первым пускай выскажется Дунаев, потому как на фабрике Бакулина люди готовы к стачке поболее других…
Худощавый, рябоватый, живой Евлампий тоже говорил мало, но веско:
— Наши ткачи уже предъявили Бакулину свои требования. Вы их знаете — восьмичасовой рабочий день и прочее… Хозяин, мать моя, святая богородица, — вставил любимое присловье, — и не думает их выполнять! Коли через пять дней не раскачается, с фабрики выходим. Просим нас поддержать…

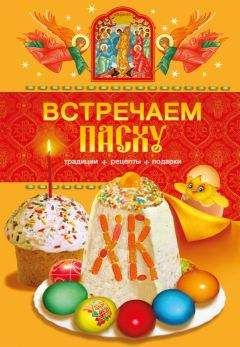
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)


