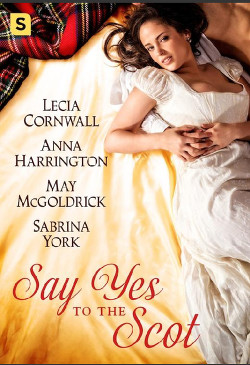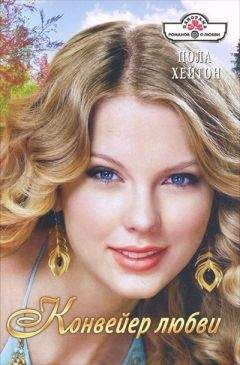вдруг это было совсем не так? Может, она решила, что оставить тебя с Соней – это лучшее, что она может сделать? Ты не говорил с ней много лет.
Его голос напряжен.
– Не без причины.
Вспоминаю надежду Сони в ресторане, почти моментально угасшую, и ее печальное смирение. Она не перестает верить в свою дочь, даже после всей боли, которую та ей причинила, которой – не сомневаюсь – было немало.
– Ты веришь в правду, ты сам говорил. Разве отказ услышать историю мамы – не способ уйти от правды?
Он встает с кровати.
– Джесс, я знаю, ты предпочитаешь жить в мире фантазий, но факты есть факты. Для большинства из нас. Мать бросила меня после смерти отца. Мне было семь лет.
Его руки сжаты в кулаки. Мне больно за него, но я тоже пытаюсь добраться до истины. К тому же я не хочу, чтобы он упустил возможность наладить связь с единственным оставшимся родителем.
Я, все еще на кровати, беру его за руку.
– Конечно, факты есть факты. Но, может… – Стараюсь осторожно подбирать слова. – Может, правда – это что-то другое, это… набор фактов в том порядке, в котором они ближе всего твоему сердцу?
Эван отпускает мою руку.
– Ты не понимаешь, о чем говоришь. Это опасно, так думают конспирологи и демагоги. Небо синее, Джесс. Один плюс один – это два. О таких вещах никто не спорит. Это истина.
– Но иногда небо окрашивается оранжевым, и, если взглянуть на моих родителей, можно сказать, что один плюс один – это ноль… Может, речь не идет об истине с большой буквы «И», но что, если это просто рассказ, история, которую мы себе рассказываем? – На секунду в памяти всплывает прабабушка на больничной койке, кашляющая, тяжело дышащая. – И рассказ мамы отличается от твоего.
Я снова протягиваю к нему руку, но он ее стряхивает. Никогда не видела его таким.
– То есть у каждого может быть своя конкретная правда? Знаешь, как это называется, Джесс? Привилегия.
«Привилегия»? Значит, вот в чем дело. Вот почему он не принял от меня деньги, почему он так отреагировал, когда я упомянула Гарвард, почему он думает, что мне стыдно знакомить его с семьей.
– Это безумие, – говорит Эван.
Во мне вспыхивает гнев.
– Так я привилегированная и безумная?
– Я не говорил, что ты такая.
– Конечно, я не такая, это только вся моя жизнь, – саркастически говорю я.
– И да, верить, что твоя прабабушка – Анастасия Романова, это безумие.
Встаю прямо перед ним.
– Это ты сказал мне, что она Анастасия, – напоминаю я, тыкая его пальцем в грудь.
– Может, я просто замечтался. Красивая девушка приносит такую загадку…
Игнорирую, что он назвал меня красивой.
– «Я тебе не очередная загадка». Кто это сказал?
– Джесс. – Он берет меня за плечи. – Ты правда веришь, что твоя двоюродная бабка была Анастасией Романовой, что она пережила расстрел и проделала путь из России через всю Европу, чтобы выйти замуж за твоего дядю и поселиться в Кине, штат Нью-Гэмпшир?
– А ты никогда в это не верил. – Теперь я стряхиваю его руки. – Не тебе решать, что было ее правдой.
– Зато я вижу, что реально, а что нет… «ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Знаешь, кто это сказал? – Он выжидает секунду. – Геббельс.
Ядовито усмехаюсь.
– Эти твои цитаты. Знаешь, почему ты так их любишь, Эван? Потому что ты можешь вырывать их из контекста и лепить куда твоей душе угодно. Но цитата не раскрывает всей истории… Знаешь, ты – лицемер.
– Ты закончила? – спокойно спрашивает Эван.
У меня в груди буря эмоций.
– Да.
– Думаю, тебе лучше уйти.
1 мая, 2008
После этой ссоры мы с Эваном виделись дважды, первый раз – в октябре, когда мы успели остыть. Он был в «Брюбейкерс» – где же еще – за столиком в конце зала. Мы с Кэти зашли туда после школы, чтобы взять по тыквенному латте с пряностями. Наши взгляды встретились через стекло, и Кэти, заметив это, предложила взять смузи вместо кофе.
Второй раз был тяжелее. В январе, в «Линдис». Я пошла туда с Кэти и ее друзьями-театралами. Это был вторник. Я забыла, что у них по вторникам покер. Они сидели за своим обычным столиком в конце зала: Эван, Рассел, Стюарт и Амит. Я никуда не смотрела, кроме нашего столика. лишь раз я позволила себе бросить на них взгляд и на секунду понадеяться, что Эван только что отвернулся.
Я садилась написать ему раз двенадцать, а то и больше. Не эсэмэс или электронное письмо, а настоящее, на нелинованной бумаге кремового цвета, позаимствованной из маминого кабинета. Это плотная бумага с водяной маркой. Я хочу попросить прощения – мне было больно, но я не должна была лезть не в свое дело, – но каждый раз, когда сажусь за письмо, с острой болью вспоминаю, как Эван называет меня привилегированной и безумной. Конечно, лицемером была я, которая только недавно набралась храбрости не скрывать от близких, кто я на самом деле. Но это неправильные слова, а найти подходящие у меня не выходит.
В феврале родители разъехались. Папа перебрался в двухкомнатную квартиру с бассейном, где – он пообещал нам с Гриффином – мы все будем плавать, когда потеплеет. Расставание, мягко говоря, отстой – особенно тяжело его переносит брат, – но я понимаю, что к этому все шло уже давно, и видно, что родители теперь стали счастливее. Не могу сказать, что я тоже счастлива, но я привыкаю. Иногда я ночую у Кэти и засыпаю под «Заколдованную Эллу».
Потом, в прошлом месяце, Лайла подошла ко мне в женском туалете на втором этаже. Она была в слезах. Возможно, даже слегка пьяная. Она не то чтобы попросила прощения; она хотела узнать, как сделать так, чтобы Райан ее любил. Мне было ее жаль – больше, чем кого-либо в жизни, даже больше Анны, потому что я как никто понимала, что она чувствует. Мне хотелось рассказать ей все, чему я научилась: что не надо притворяться кем-то другим в надежде понравиться окружающим, потому что я думала, что меня для них недостаточно, но раздался звонок на четвертый урок. На следующий день она делала вид, что ничего этого не было. Возможно, она забыла.
Положение осложнялось тем, что наша семья тесно дружит с Хартами. После развода никто не ждал совместных поездок на лыжный курорт, но как-то раз наши с Райаном дорожки пересеклись – перед кинотеатром, когда