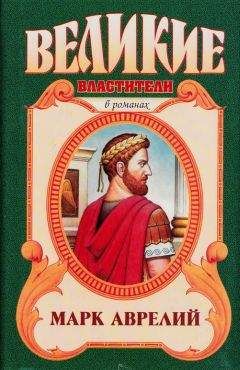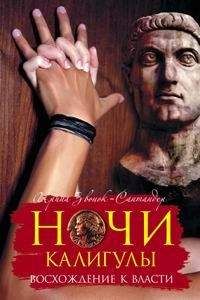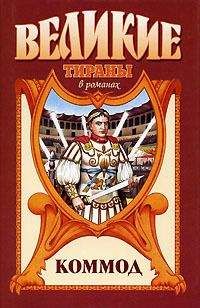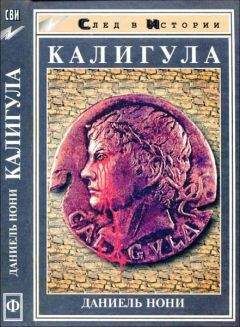— При таком перевесе в силах? — не удержался от возгласа Пертинакс. — При благоприятном для нас внешнеполитическом раскладе? Стоит ли нам терять время и ждать, пока квады, получив тела глупцов, умертвивших себя собственными руками, похоронят их и соизволят начать переговоры. Я полагаю, нам следует решительно двинуться вперед, разрубить их страну надвое и силой привести к послушанию. Если ты предлагаешь пойти на уступки, объясни, почему? Только не надо темнить, ссылаться на богов, на некие трудности.
Говори яснее!
Катуальда, знай, никто не обвиняет тебя в неверности Риму, так что ты брось постоянно напоминать нам о своем инородном происхождении. Септимий родом из Африки, сам я галл, Пет далматинец — и что?
— Зря укоряешь меня, Пертинакс, — не скрывая негодования начал Катуальда, — в желании скрыть что‑то от товарищей по оружию. Неужели осмотрительность, знание врага, честность по отношению к товарищам по оружию перестали быть достоинствами? К тому же я никогда не пытался спекулировать на своем происхождении. Я верно служу Риму, ибо не вижу другой силы, способной сохранить мир и спокойствие в этих краях. Но я люблю родину, люблю свои горы и лучше тебя понимаю тех, кто населяет эти места. Нам нельзя вынуждать противника драться до конца.
Марк неожиданно со всей силой ударил ладонью по столу.
— Хватит! — он повысил голос. — Отставить философию! Разобрать дело по существу! Выдать тела или немедленно закопать их, а завтра двинуться дальше? Высказывайтесь.
Подавляющее большинство подало голос за то, чтобы завтра же выступить в поход. Катуальда и Агнедестрий выступили против. Промолчал только Бебий. Между тем Марк неотступно и упорно сверлил его взглядом, наконец, Иероним не выдержал, поднялся с места.
— Мое мнение таково, все мы здесь занимаемся пустым делом. Я уверен, решение о выдаче тел теперь не имеет никакого значения. Если этот вопрос поставлен, значит, квады решили воевать. Это ясно. Другое дело, они ждут, как мы поступим. Собрались ли мы с корнем уничтожить их народ или при определенных условиях с нами можно договориться. Этот вопрос мы должны сами решить для себя. То есть, признаём ли мы в германцах достойных противников или явились сюда исключительно для того, чтобы надеть на них ярмо, загнать в клетки, выставить на гладиаторских играх. В любом случае Катуальда прав, следует готовиться к войне долгой, о скорых переговорах забыть. Тем более о сдаче на милость победителя. Противник у нас опытный, увертливый, способный на любые каверзы.
— Ты хочешь сказать, что без сражения нам не обойтись? — недоверчиво спросил Септимий Север.
— Да.
— И я о том же! — воскликнул Катуальда.
Марк жестом утихомирил его.
— Другими словами, — обратился он к Бебию, — ты предлагаешь выдать тела?
— Я ничего не предлагаю. Я просто описываю ситуацию. Следует забыть об успехах первых дней и готовиться к долгой и трудной кампании.
Всю ночь Бебий, устроенный в отдельной палатке возле императорского шатра, молился, горевал, каялся в собственной несдержанности, в горячности сердца. Обвинял себя, что поддался чувству вражды, раскрыл рот и дал совет пролить кровь. Вот чем обернулась минутная власть гордыни — тяжким грехом, призывом к убийству. Захотелось поучить воинов, выказать свою осведомленность. Надо было в первый же день взять посох и отправляться в путь. Перейти через Данувий и шагать подальше от кровопролития.
В палатке горела свеча. Бебий стоял на коленях, спиной к входу. Услышав шорох, он обернулся. Его лицо было залито слезами. Заметив императора, он грубо, сминая губы, утерся ладонью, вопросительно глянул на него.
Император вздохнул.
— Что не спишь, Иероним? Грехи замаливаешь?
— Да, господин.
— Заканчивай, и пошли ко мне.
У себя в шатре Марк поинтересовался, как германцы хоронят погибших воинов? Бебий объяснил, этот обряд лишен всякой пышности. Уложат огромные поленницы из дубовых плах, взгромоздят на них тела и предадут освежающему огню. В пламя швырнут оружие погибших, никаких благовоний или утвари. Могилы потом обложат дерном. Стенаний и слез они не затягивают, скорбь и грусть хранят долго. Женщинам приличествует оплакивать, мужчинам — помнить.
Потом поговорили о том о сем. Марк рассказал о Бебии младшем, о его страстной любви. Иероним слушал, время от времени кивал, однако особого интереса не выказывал. На вопрос насчет хитростей и уловок, которые способны применить квады, ответил, что ничего определенного сказать не может, потом попросил разрешения вернуться к себе.
Марк разрешил. Отпустив Бебия, бродил по шатру, как неприкаянный. Наконец вышел на преторий, обошел насыпной холм, прислушался к ночи.
Тьма, прореженная, подрагивающим светом факелов, была суха, воздух зноен. Звезды парились в дымке, мигали, посмеивались. Одним словом, светили таинственно. Луны не было, подсказать некому, что ждет впереди. Впрочем, Марк Аврелий никогда особенно не доверял ни луне, ни звездам. Первая есть подобие земли, также шарообразна, мелка по размерам, далеко ему до мыслящего сияющего Солнца. Каковы звезды, Марк не ведал, ему собственно до них и дела не было, разве что до их расположения, смысл которого брались угадывать халдеи. По расположению светил они пророчили судьбу. Сомнительно, чтобы в этом угадывание было много знания — скорее, суеверие.
Однако в ту минуту император не мог отвести взгляда от частых, унылых, размазанных по легкой пепельной завеси, светил.
Что предрекали они?
Решительное сражение? Это после убедительного начала войны? Невзирая на римское превосходство в силах?
Хотелось знать наверняка, что ждет его и его армию. Чем богаты впередистоящие дни? Свершится ли торжество разума, обнимет ли ойкумену свет истины или все погрязнет во мраке, и люди, как мелкие скоты, начнут топтать друг друга? Было грустно оттого, что разуму недоступна тайна грядущего. Или в этом и заключался истинный замысел логоса — подкидывать загадки, тешить мечтами, смущать непреклонностью и могуществом логики, а в конце громко посмеяться над надеждами?
Не раз он задумывался о непроницаемой сути мирового разума, чья доброта, казалось, не может быть подвергнута сомнению. Ведь куда не бросишь взгляд, всюду порядок, всюду устроение. И сам он, смиривший себя, познавший себя, представляет собой пример устойчивой, остепенившейся добродетели. Так отчего же ноет сердце и утомительно в груди? Отчего скорбит душа, о которой так много и горячо рассуждает Бебий.
Поразмыслив, Марк пришел к выводу, что готов принять возможность воскресения Христа. Согласен предстать и перед мировым судьей, но только в компании с учителями, единомышленниками, с наставлениями Эпиктета и письмами Сенеки под мышкой. Скажи, предвечный судия, неужели ты способен осудить Сократа, Сенеку, Тразею и Приска? Осудить за незнание? Наказать вечной мукой за то, что бродили во тьме и не ведали, в какой стороне свет? Где ж ты раньше был, почему не открыл им глаза? Теперь желаешь ввергнуть их в геенну огненную. За что? За то, что жили праведно? Что учили других жить праведно. Что достойно встретили смерть? Разве это не в счет? Разве это суд? Нет, это возмездие за непокорность, за любовь к разуму. Такого господина душа не принимала.
Хватило сил унять расходившееся сердце, свести мысли к неясному, вызывающему тревогу пункту — как поступать дальше? Чего ждать от квадов? Неужели эти глупцы всерьез решили сражаться против его легионов?
Марк подозвал сопровождавшего его в прогулке Сегестия и отправился к огороженному месту, где в палатках жил Ариогез с семьей. Здесь плененный царь дожидался решения императора. Марк при первой же встрече успокоил Ариогеза и объяснил, что ни ему, ни его жене и детям не будет никакого насилия.
У ворот Марк приказал охране разбудить пленного царя, вызвать его. Ариогез явился сразу — оказывается, его тоже мучила бессонница.
Поговорили при свете факелов, прямо у ворот.
Ариогез угрюмо глядел на принцепса, затем нехотя, с трудом ломая шею, поклонился. Марк уселся на войсковой барабан, который по приказу Сегестия притащили преторианцы из охраны. Устроившись, поерзав, Марк жестом предложил Ариогезу присесть на лежавшую рядом колоду.
Был царь квадов не в пример своим соотечественникам черняв, но также высок, красив и прекрасно скроен. Руки сильные, могучая шея, крепкие длинные ноги — в бою он показал себя хватом.
Тот некоторое время колебался, некоторое время рассматривал небо. В лесу послышалось уханье филина. Марк не торопил врага. Наконец, Ариогез, на что‑то решившись, уселся на колоду, подогнул под себя ноги. Осмелился спросить первым.
— Какое дело имеешь ко мне, император?
— Объясни, Ариогез, чего ты добивался, решившись воевать с Римом?