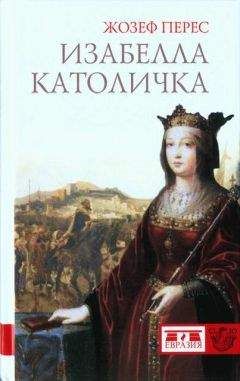Я не могла заснуть, а когда мне это все-таки удалось, приснился наш древний боевой клич «Сантьяго!», утопавший в звоне мечей, ржании лошадей и трясине из крови и грязи, в которую превратилась земля под ногами. Я проснулась, тяжело дыша и комкая в руках простыни.
Я могу потерять его, подумала я. Фернандо может погибнуть.
Ветреным мартовским утром, почти два месяца спустя после того, как Фернандо захватил Самору, Инес привела ко мне гонца — мальчишку не старше двенадцати лет. Он опустился на колени у моих ног, промокший насквозь от дождя, а у меня вдруг возникла неуместная мысль о его плаще, столь грязном, что я не могла различить, какого он цвета.
— Majestad, — прошептал он еле слышным от усталости голосом и достал клочок бумаги, покрытый грязью и ржавыми пятнами.
Я взяла его, затаив дыхание.
Печати не было. Чувствуя тревожный взгляд Инес, я повернулась к окну и поднесла бумагу к бледному свету, не решаясь прочесть. Что бы ни говорилось в записке, я не могла сломаться. Не должна упасть в обморок или разрыдаться. Я обязана оставаться сильной. Этого ждал от меня Фернандо, так же как и я от него.
Развернув записку, я прочитала два слова:
Мы победили.
Я сразу же выехала ему навстречу. К тому времени узнала, что Альфонсо приказал отступать, поскольку я лишила его путей снабжения и разрушила все окрестные замки, не оставив португальцам шансов на прибежище. Фернандо пустился в погоню, и два войска столкнулись в болотистом ущелье, где наши солдаты сражались с такой яростью, что разбили врага наголову, хотя и находились в меньшинстве.
Альфонсо удрал через границу в свое королевство, оплакивая потери. Более половины его людей погибло, их оружие и прочее имущество пополнило нашу казну. Позже я узнала, что Иоанна ла Бельтранеха тоже бежала в Португалию, ища убежища при дворе своего жениха; я поклялась, что ее ноги больше не будет в Кастилии, разве что в качестве моей пленницы.
Увидев Фернандо на неотесанном деревянном помосте возле поля боя, изможденного, но улыбающегося, в мундире из ярко-красного дамаста, с гордо поднятой головой, я с трудом удержалась, чтобы не броситься к нему. На этот раз наша встреча была насыщена торжественностью, которую он заслужил как воин. Мы пожали друг другу руки, повернулись к аплодирующим солдатам и приняли порванный штандарт Португалии — несший его солдат был порублен на куски, защищая знамя до самого конца. Я пообещала освятить новый собор в Толедо в ознаменование нашего триумфа. Затем мы послушали мессу за всех отдавших жизнь и вернулись домой в Сеговию, к нашей дочери и нашему двору.
Наконец Кастилия принадлежала нам.
У мавров есть старая поговорка: «Каждый мужчина обязан хоть раз в жизни увидеть Севилью». Должна добавить, что то же относится и к женщинам, и летом тысяча четыреста семьдесят седьмого года у меня наконец появился такой шанс.
Минувший год ознаменовался для нас с Фернандо нескончаемой работой по преодолению последствий войны с португальцами. Мы трудились не покладая рук, карали продажных вельмож, оказывавших Альфонсо тайную помощь, и сравнивали с землей их крепости, лишали прочных стен, за которыми они могли спрятаться. За годы беззаконного правления моего отца и Энрике в Кастилии в изобилии появились частные замки — некоторые гранды до сих пор воображали, будто стоят выше короны. Они собирали дань с окрестных селений, словно феодальные военачальники, усеивали ландшафт укрепленными цитаделями, полными подчинявшихся лишь им слуг. Некоторые даже отвергли наш призыв к оружию во время португальского вторжения, и после войны мы с Фернандо решили, что пора преподать им урок, который они не скоро забудут. Мы объявили, что останутся нетронутыми лишь те замки, на которые получено наше официальное разрешение. Если сеньоры не возьмут на себя снос незаконных владений, мы сделаем это за них и вдобавок наложим на владельца в наказание крупный штраф.
Мы также созвали кортесы, чтобы далее усовершенствовать законодательство и возродить возглавляемый гражданами Санта-Эрмандад — Святое братство, правоохранительный орган, который, как и многое в Кастилии, был в полной разрухе. С помощью Братства мы намеревались восстановить порядок в дальних провинциях, преследуя мятежных наемников и прочих преступников. Постепенно, город за городом, селение за селением, деревня за деревней — иногда казалось, камень за камнем, — мы подчинили Кастилию нашей власти.
Обобранный и брошенный португальскими союзниками, во дворец явился Диего Вильена, умолял на коленях о прощении. Готов был лишиться всего, и, в отличие от его отца, у него не было Энрике, на которого он мог положиться. Хотя Фернандо настаивал, что Диего следует отрубить голову, я рассудила иначе — восстановив аристократические привилегии Вильены, мы заручимся поддержкой знати, продемонстрируем, что способны на милость даже перед лицом откровенного предательства. То было рискованное предприятие, но вскоре оно окупилось с лихвой — несколько вельмож, сопротивлявшихся нашему приказу сократить свои владения, хоть и с неохотой, но пришли к нам, дабы поклясться в верности.
Что касается архиепископа Каррильо, никакого раскаяния с его стороны не последовало. У меня не осталось иного выхода, кроме как приказать ему отказаться от всех мирских благ и навсегда поселиться в монастыре Святого Франциска в Алькале под страхом тюрьмы. Сломленный своими же поступками и брошенный всеми, даже слугами, которые сбежали в ночь с остатками его немногочисленного имущества, он подчинился приказу, отправился под стражей во францисканский монастырь, чтобы прожить там остаток дней в нищете и забвении. Хотя я и сожалела, что столь отважный служитель церкви и воин так низко пал из-за собственной неуступчивости, лично к нему никакой жалости не испытывала. В отличие от Вильены, чья молодость и дерзость швырнули его в объятия безрассудного союза с Альфонсо Португальским, Каррильо преднамеренно мстил мне за то, что я последовала совету Фернандо, а не его. На этот раз о прощении не могло быть и речи.
И тем не менее, даже когда Каррильо больше не мешал и наш план перестройки королевства быстро продвигался, я продолжала бороться с собственными тревогами. После выкидыша я больше ни разу не зачала, и опытные врачи, с которыми я советовалась, не могли дать внятного объяснения. Все они рекомендовали больше отдыхать и посвящать себя занятиям, подходящим утонченному женскому темпераменту. Похоже, они полагали, что поведение женщины, свойственное мужчине, каким-то образом препятствует зачатию, я же считала это абсурдным. Вряд ли исполнение обязанностей царствующей королевы могло помешать моему освященному Богом женскому предназначению.
Тревога, однако, не покидала меня, особенно в постели с Фернандо. С тайной помощью Инес я раздобыла отвратительно пахнущий отвар вербены, чтобы успокоить нервы. Я молилась с двойным усердием, даже ездила на север, в Бургос, во время страшной бури, чтобы посетить уединенную часовню Сан-Хуана-де-Ортеги, где находился примитивный каменный рельеф, якобы изображавший рожающую женщину. Часами стояла перед ним на коленях на ледяных плитах, прося поддержки, пожертвовала средства на постройку большой церкви этого святого, но в моей утробе ничто не шевелилось. Месячные оставались нерегулярными, как всегда, но кровь неизбежно шла, зачастую столь сильно, что я стискивала зубы от боли. Я не могла понять, почему Господь, столь многое даровавший, направивший нас к победе над Португалией, не дает нам с Фернандо единственного, столь желанного благословения — принца, который унаследует короны после нашей смерти и навсегда объединит Кастилию и Арагон.
В конце концов Фернандо заметил мою озабоченность. Ночью в покоях, после того как закончились аудиенции и мы сняли с себя украшенные драгоценностями регалии, он прошептал мне ободряющие слова, пытаясь успокоить.
— Это случится, когда придет время, — шепнул он, пока я лежала в его объятиях, недвижная, словно камень. — Любовь моя, у нас будет сын, когда Господь того пожелает.
Мне хотелось кричать, плакать, крушить все вокруг — что угодно, лишь бы выплеснуть тоску и разочарование. От известия, что в Арагоне у Фернандо снова родился мальчик, мне отнюдь не стало легче. Хотя он, поджав губы, отправил гонца прочь с подарком для ребенка, притворившись, будто случившееся ничего для него не значит, это лишь подтвердило его мужскую силу и мою неспособность дать ему то, что имелось у той, другой женщины.
К лету тысяча четыреста семьдесят седьмого года я едва могла смотреть на него, да и вообще на кого угодно. Мне было столь тоскливо, что я почти обрадовалась, когда пришло срочное известие о новой вражде между самыми могущественными вельможами Андалусии — герцогом Медина-Сидонией и маркизом де Кадисом.