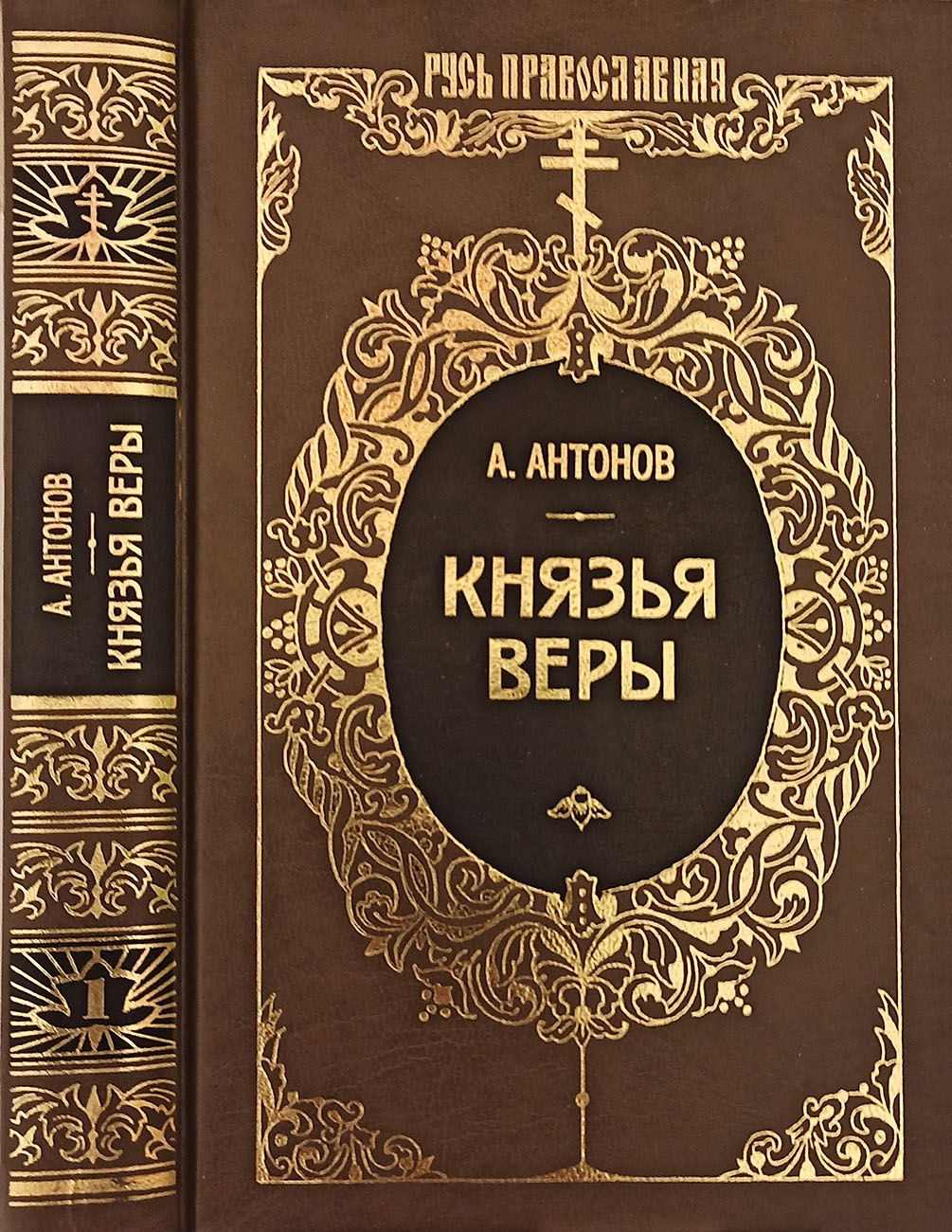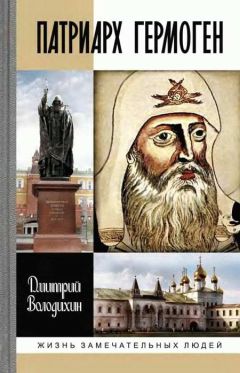молча ушёл в глубь погреба и прикатил небольшой бочонок вина. Сильвестр поругал иезуитов.
— Нехай бы они лопнули от зелья. Уж сколько я им переносил! — Он ловко поднял бочонок и унёс его на кухню. В доме его никто не спросил, кто он, почему ходит всюду. Всё в Стародубе с прошедшего вечера смешалось, сместилось. И люди купца сочли Сильвестра за пришлого, потому как таких рыжих в Стародубе не водилось. Со своей стороны, иезуиты не сомневаясь приняли его за человека из дворни купца, которая оказалась большой.
Подошло время утренней трапезы. Сильвестр открыл бочонок, налил в большую братину вина, взял ковш тёмной меди и понёс всё в трапезную. Там он увидел отдельный стол и за ним трёх иезуитов, чинами выше других, прошёл к ним. Низко поклонившись, предложил выпить вина. И посмотрел на них так, что они не могли отказаться.
На лицах иезуитов появилось подобострастие. Старший из них, худой, с орлиным носом, седовласый, перекрестился и прошептал: «Святая Мария!» — и, приняв от Сильвестра ковш с вином, воскликнул:
— О Казаролли, да простит Господь твоё прегрешение! — Он сделал три добрых глотка и передал ковш товарищу — круглолицему, глаза щёлочки, губы в ниточку, — иезуиту. — Приложись, брат.
И тот опорожнил ковш до дна, засмеялся, поглаживая своё большое чрево и приговаривая:
— О Матерь Божия, хвала тебе за то, что прислал святого Севостьяна!
Сильвестр снова наполнил ковш и подал третьему, самому молодому, черноглазому иезуиту. Но тот показал на Казаролли. Ведун понял знак и подал вино старшему. Казаролли снова сделал три глотка. Лишь после этого к ковшу приложился черноглазый. Отпив совсем немного, он одарил оставшимся вином толстяка.
Когда Сильвестру вернули ковш, он поклонился и ушёл. Но, проходя мимо столов иезуитов, он видел, как к нему тянули руки, просили вина и восклицали: «О святой Севостьян, смилостивись!»
«Севостьян» не проявил к ним жалости. Он ушёл с купеческого подворья и бродил по городу, коротая время до полуденной трапезы. Да увидел то, что и во сне не часто снится: на городской площади палачи готовились казнить десять горожан. На сооружённом помосте палач принародно точил топор. Ещё нескольких горожан два дюжих ката валили по очереди на помост и секли плетьми.
— За что их? — спросил Сильвестр старого горожанина.
— Сказывают, что намедни кричали здесь, что царь не есть царь, а тать из Шклова. Вот и... — Озираясь, горожанин поспешил уйти.
И Сильвестр ушёл с места казни. На душе было неспокойно, и он отправился к дому отца Алексия. А на купеческое подворье вернулся лишь к вечерней трапезе. Он повёл себя так же, как и утром, и вся дворня купца отнеслась к нему как к близкому иезуитам человеку. Были и такие, кто слышал, как иезуиты называли его «святым Севостьяном».
Сильвестр велел ключнику выдать ему большую бочку вина, и монахи прикатили её в трапезную. И когда иезуиты собрались ужинать, на столах у них стояли братины с вином. Водрузив и на стол Казаролли братину с хмельным, Сильвестр попросил его по-латыни:
— Преподобный отец, пусть и твои дети выпьют за Святейший престол.
Сильвестра услышали все и с надеждой смотрели на своего патера. Он встал, поднял кубок и сказал: «С нами Бог». И выпил вино. И все дружно приложились к кубкам. Тут же Сильвестр велел слугам купца снова разливать вино. И вскоре в трапезной стало шумно от говора. И слышно было, как иезуиты повторяли: «О святой Севостьян, хвала тебе!»
Ведун делал своё дело. Он велел слугам принести в трапезную водки и угостить всех русским «причастием».
То-то началось! Казаролли от пшеничной водки захмелел сразу. И пожелал, чтобы Сильвестр сел с ним рядом.
— Почтенный, я вижу в тебе святого Севостьяна. Не так ли сие?
Сильвестр улыбнулся, и глаза его сверкнули зелёным огнём.
— О, я не сомневаюсь. Ты есть святой Севостьян. И я буду восхвалять твоё имя братьям во Христе и овцам заблудшим, россиянам. Да благоволит перед тобой наша святая церковь. — И Казаролли осушил до дна кубок с водкой. Не отстали от патера и его сотоварищи.
И надо же быть такому чуду, что сами они ещё крепко держались за столами, а языки их такую волю взяли, так расплёскивали слова, что удержу им не было. Однако лопот иезуитов лился несвязно. А Сильвестру не это было нужно. Он хотел, чтобы Казаролли дал волю не только языку, но и рукам, чтобы показал всё, что везёт в Россию именем папы Римского. Сильвестр снова поиграл зелёными глазами. Но Казаролли оказался не так прост. И сам попытался ожечь «Севостьяна» взглядом. В чёрных глазах свечи загорелись. Ан нет, Сильвестр оказался сильнее духом. И увидел Казаролли, что над «Севостьяном» сияние поднимается, а сам он витает над столом Казаролли и зовёт тоже взлететь. И вот уже посланник папы Римского машет руками, подпрыгивает, пытаясь вознестись. Но ему что-то мешает. И он достаёт из карманов различные предметы. Вот легли на стол чётки, крест, ладанка с ликом Богоматери Казаролли снова попытался взлететь. Но и сия попытка не увенчалась успехом.
Иезуиты хором подбадривали своего патера, сами махали руками, как крыльями. И тогда Казаролли достал из тайного кармана то, что мешало ему взлететь. А был сие всего лишь свиток. Он подал его Сильвестру, при общих криках одобрения взобрался на стол, замахал руками, оттолкнулся от стола, и — о чудо! — ему показалось, что он парит над столами. Но «чудо» длилось мгновение, Казаролли упал на пол. Иезуиты сбежались в кучу, мешая друг другу, пытались поднять Казаролли. Наконец им удалось это, и под торжествующие крики они унесли его из трапезной.
О «святом Севостьяне» иезуиты забыли. А он прошёл в людскую, там увидел Паули, позвал его, и они спешно покинули купеческое подворье. Благополучно добравшись до домика отца Алексия, Сильвестр и Паули уединились, и ведун достал спрятанный под кафтаном свиток. Радости у Сильвестра не было. Уж больно легко далась ему добыча — тайна римского двора. Знал Сильвестр, что такие лёгкие приобретения всегда оборачивались порухой. Но дело было исполнено. Он подал свиток Луке:
— Может, сие и есть то, за чем мы шли, — сказал он. — Читай.
Лука развернул свиток, преподнёс к свече. Латынь он знал и с первых же слов понял, что это тот документ, за которым их послал Гермоген. Бумага хранила тайные замыслы иезуитов.
— Брат мой, это та дичь, за которой