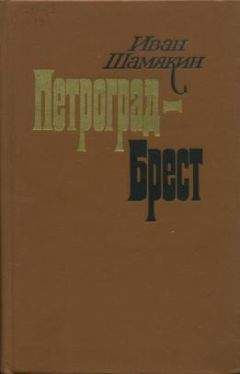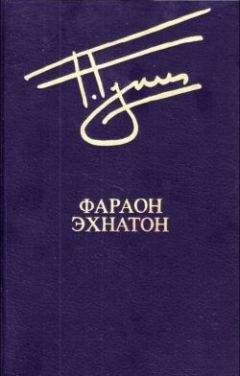У полковника повеселели глаза.
— Вы так думаете?
— Убежден. Недаром и слово новое появилось: военспец.
— Воен-спец, — медленно, протяжно повторил Пастушенко непривычное слово, как бы проверяя его звучание, потом выговорил его быстро: — Военспец, — и покивал головой, усмехаясь какой-то мысли, которую, наверное, хотел высказать. Но помешала Мира. Она вошла в комнату, радостно возбужденная. Не поздоровавшись даже с Пастушенко, весело спросила:
— Вы слышали? Мир! Мне нужно написать листовку — обращение к солдатам. Где бумага?
— К чему вы будете теперь призывать их? — деликатно спросил Пастушенко.
— Чтобы, вернувшись домой, они тут же забирали землю, скот у помещиков, у кулаков. А кто будет против — того под ноготь, как окопных вшей, к стенке… Чтобы сволочь эта, контра…
На бледных щеках Пастушенко выступили свекольные пятна. Он поднялся, сказал вежливо, но голос его странно задрожал:
— Дитя мое! Зачем так? Зачем такая жестокость? Разве мало крови? — и вышел из комнаты.
Мира удивилась.
— Он что? Обиделся? Он не рад миру?
Богунович вздохнул.
Мира разозлилась.
— Не понимаю я ваших барских вздохов. Богунович ступил к ней, обнял за плечи, подвел к тому окну, из которого видна была конюшня — около нее толпились солдаты и крестьяне. Теперь он понял, что не жеребенок английских кровей появился на свет — люди прощаются, солдаты собираются домой. Поспешно собираются.
— А ты пойми… Пойми. Человек тридцать лет в армии. А теперь куда? В имение, купленное за честно заработанные деньги, поехать не может…
— Ах, ему имения жаль?
— Нет, не имения. Ты же видела, что Петру Петровичу ничего не жаль. Ему тяжело от неопределенности… Куда деваться? А ты — под ноготь, к стенке… Что ж, и его к стенке? Здорово обеднеет Россия, если ставить таких, как Петр Петрович, к стенке.
— Не обеднеет.
— Ты удивляешь меня. Ты же добрая. И умная. Ты — женщина… Мать будущая…
— Замолчи, пожалуйста! — жестко приказала Мира.
И сама замолчала. Но от окна не отошла. Стояла рядом и часто дышала, как при воспалении легких.
Долго стояли молча. Из конюшни вывели-таки Звезду, и солдат водил ее на длинном поводе. А вслед стайкой воробьев бежали дети. Одна девочка, самая маленькая, в платке и длинной материнской кофте, без конца спотыкалась и падала. Но тут же поднималась и снова бежала, бежала за старшими. Было в ее упорстве что-то и смешное, и трогательное.
Сергей даже вздрогнул от Мириного голоса, такой он был непривычно чужой, не по-женски жесткий:
— У него неопределенность… А у меня — определенность? Ему тяжело. Подумаешь, у него душа! А у меня что — балалайка! Мне, может, в сто раз тяжелее, однако я не хнычу…
— Отчего тебе тяжелее? — очень осторожно и тихо, почти шепотом, спросил Богунович.
— Отчего? — и язвительно: — От радости. Полная де-мо-би-ли-зация! Ты полетишь в свое теплое гнездышко. А я… я куда?
Сергей, удивленный, повернулся к ней.
— Как — куда? Ты что это! Мы же обо всем договорились. Ты что, играла со мной как кошка с мышкой? — От одной этой мысли его бросило в жар.
— Не играла. Но хорошо знаю, что твои родители… твоя мамочка ни за что не даст согласия на нашу женитьбу. Как же: фронтовая девка… еврейка…
— Не смей! — крикнул он.
— И ты послушаешься. Знаю я вас, буржуев! Вы добрые, пока мы вам нужны.
— Ты не веришь мне? — Сергея дрожь проняла от таких ее слов. С чего вдруг? Чем они вызваны? Давно ли он нес ее на руках и глаза ее светились счастьем?
— При чем здесь веришь или не веришь, — мягче, с большей рассудительностью сказала Мира. — Законы класса…
— Пойдем сегодня же повенчаемся!
Она отступила от него на два шага, черные глаза ее, и без того казавшиеся целыми озерами на исхудавшем от болезни лице, расширились и сыпали искрами гнева.
— Господин поручик! Вы часто забываете, что произошло в России. И — кто я такая.
Но Сергей схватил обе ее руки, крепко, до боли сжал их.
— Ну, ляпнул по привычке. Конечно, мы вступим в гражданский брак. В Совете.
Мира осторожно освободила руки, отошла от стола, так же осторожно, будто у нее что-то заболело, села на высокий стул, наклонилась вперед и закрыла лицо руками.
— Что с тобой?
Она ответила не сразу:
— Прости. И дай мне побыть одной.
Он схватил папаху, выбежал в коридор. Там увидел Пастушенко. Полковник сидел на чурбане перед печкой, в которой жарко пылали березовые дрова. Сергей попросил его:
— Дайте ей побыть одной. Она сказала не подумав…
— Я понимаю, голубчик… Я что… Я вас очень прошу… не нужно ее обижать. Не нужно.
Совет размещался в единственном на все село кирпичном здании — бывшей волостной управе. Но Филипп Калачик не любил там сидеть. Крестьяне шутили, что он, как сосунок, боится остаться без матери — Рудковского. Старик хитро усмехался. И действительно, не отставал от молодого большевика, ходил за ним, как короткая тень, катался, как калачик.
Рудковский, когда был не в настроении, иногда злился:
— Чего ты, дед, таскаешься за мной по пятам? Люди смеются.
— Браточка мой! Так учусь же.
— Чему?
— Руководить державой.
— Нашел учителя! Я что — министром был, что ли?
— А черт тебя знает, может, и был там, в Питере.
Недаром голова поседела. В твои-то годы. Ай-яй, у меня и то меньше седины.
— Не плачь по моей голове. А учиться нужно руководить одним селом, одним сельским Советом, а не державой…
— Кто знает, Антонка, кто знает. Может, меня Ленин к себе в помощники позовет.
— Нужны Ленину такие помощники!
— Не скажи, Антонка. Снился мне вчера сон. Вышел я, браточка, из волости, иду по улице, а навстречу человек. Не наш, одет по-городскому. Но знакомый, как брат все равно. Кто такой, думаю. И вдруг узнаю. Он! Холодно, а он в кепчонке. Здорово, говорит, Филипп Михайлов. А я за тобой. Собирайся в Питер, поможешь, говорит, мне. А то собралось там много умников, но такого, как ты, нет ни одного. Ах ты, бог мой, думаю. Как же так? Да тут черт принес Киловатиху. Заголосила на всю улицу, дурная баба. И Ленин исчез. Как испарился или вознесся. Вещий сон, Антонка.
Рудковский выслушал его с интересом: Калачик известный на всю округу выдумщик. Но не преминул уколоть старика:
— А знаешь, почему исчез вождь пролетариата? Учуял, что ты колбасы у кулака ел.
— А чтоб тебе добро было! Сколько ты будешь те колбасы поминать. У меня от них одна соль в горле осталась. А Ленина, Антонка, я вправду видел во сне. Хочу попу рассказать… чтобы он растолковал.
Рудковский гневно покраснел, шрам на щеке прямо фиолетовым сделался. Сурово поднялся, возвысился, молодой, рослый, над низеньким дедком, который сжался и сделался еще меньше, сморщил лицо — от страха или от натуги, чтобы не рассмеяться.
— Додумайся мне, старый баламут, еще к попу идти! Узнаю — враз вычищу из ячейки!
— Злой ты, Антон. Недаром тебя девки боятся. Даже вдовы. Ядя и та боится тебя. Ты хочешь сразу всех перековать. А мы — тресь.
— Боишься треснуть — к попу иди, к Киловатому, а не в партию большевиков.
Калачик, до этого усмехавшийся, вдруг вспылил:
— Антон! Ты хорошо знаешь, с кем мне по дороге, а с кем не по дороге. Не стебай по глазам!
Когда старик начинал злиться, Рудковский смущался. Почему-то именно в этих случаях он вдруг вспоминал, что по возрасту Филипп Михайлович — отец ему, что еще в шестом году он поднял батраков на барона, бунтовщики сожгли ригу с хлебом, и казаки исполосовали его нагайками, а потом посадили в виленскую тюрьму.
В тот солнечный февральский день батраки лопатили в амбаре семенное зерно. Зерно понемногу таяло — то солдаты выпросят, то кто-то из своих вынесет, — и Рудковский начал охранять семенной запас с чрезвычайной бдительностью, дрожал над каждым фунтом: скоро весна. Первый коллективный сев!
Калачик крутился рядом. Между ними снова произошел нелегкий разговор. Калачик сказал, что часть баронских семян нужно раздать беднякам из села: им дали землю, но сеять нечем.
Рудковский понимал, что нужно. Но бывший матрос хотел как можно быстрее вступить в коммунизм. Верил, что самый близкий путь туда — через коммуну. Сколько он сил приложил, сколько слов потратил, чтобы убедить в этом батраков, чтобы удержать их в имении, организовать коммуну. Он хорошо понимал: недосев, недород — и все его усилия пойдут прахом, коммуна развалится, батраки, имеющие права на землю, разделят ее и станут теми же крестьянами, кто бедняком, кто середняком, а кто, чего доброго, и в кулаки может со временем выбиться. Он знал зловещую силу частной собственности, боялся ее, этой силы, и ненавидел.
От раздвоенности чувств — дать или не давать — Рудковский был особенно зол. Он сказал Калачику еще в гумне: