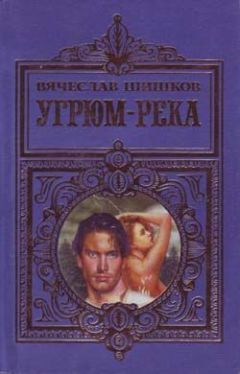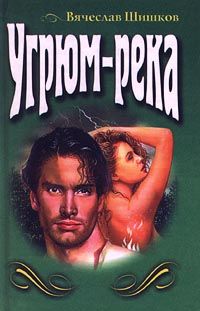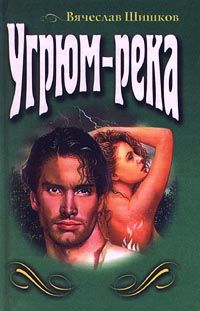– Сокол, сокол мой!.. Помнишь ли ту ночку, сокол?..
– Ведьма ты!.. Проклятая! – с кровью выплевывал Прохор черные слова.
Она пружинно, как змея на хвосте, привстала, скорготнула зубами и с размаху оглушила Прохора оплеухой. И в этот миг, вместе с оплеухой, вместе с ослепительной молнией резко, близко ударил громовой раскат. Анфиса, вся растрепанная, дикая, вскочила, закрестилась, упала на диван.
Хлынул ливень за окном. И хлынули у Анфисы слезы.
С последним отчаяньем зарыдала Анфиса в голос. Прохор, шатаясь, закрыл окно, стал подымать опрокинутые стулья, поднял две Анфисины шпильки и гребенку. Все движенья его были как у автомата, лицо мучительно-бледное, безумное. В дверь оторопело стучались.
– Кто? – озлобленно крикнул Прохор.
– Прошенька, ты, что ли? Отопри скорей.
Вся взмокшая, жалкая, вошла Марья Кирилловна.
– А ведь я голову потеряла, тебя искавши. Отец зовет...
Сильный удар грома вновь потряс весь дом.
Назавтра утром пришло от Нины письмо:
«Приехали мы на второй день Страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен. Все забыто. Матери, конечно, отец ни звука. Мать рада нашей свадьбе, она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму...»
Прохор прочел это начало письма, задумался. Укушенный палец ныл. Марья Кирилловна сделала на его палец компресс из березовых почек, настоянных на водке. Вошел отец, взглянул на поцарапанное лицо сына, молча сел. Сын стал переобуваться в длинные сапоги.
– Ну, так как же? – спросил отец. – Как же ты думаешь? Она пугает. Могут быть большие неприятности. Она баба-порох. Ей как взглянется. А ты берешь богатую, у тебя и так денег будет невпроворот. Отступись от нашего имущества, дозволь подписать все Анфисе...
– А мать? – уставился Прохор в лицо отца; губы его подергивались, по виску бегал живчик.
Отец прошелся пальцами по бороде, сказал:
– Ну что ж – мать? Она как-нито проживет. При тебе, что ли. А то, смотри, хуже будет. Анфиса наделает делов.
Прохор увидал в окно: старушонка Клюка прячется меж деревьев, резкими движениями руки настойчиво манит его.
– Сейчас, – сказал Прохор отцу и поспешно вышел в сад.
Едва отец прочел первые строки лежавшего на столе письма Нины, как в комнату ворвался Прохор; он схватил поддевку, белый картуз, выбежал вон, в конюшню, проворно оседлал коня и умчался как ветер.
До первой почтовой станции – тридцать пять верст – он скакал ровно час.
– Лошадей! – кричал Прохор на станционном дворе. – Тройку, самых горячих. Ямщику целковый на чай... Сыпь! Насмаливай!.. Загонишь – я в ответе.
И лишь возле третьей станции, с ног до головы забрызганный грязью, он догнал Анфису. Он едва узнал ее. Лицо Анфисы серое, утомленное, упрямые губы крепко сжаты. Одета она просто, в синем большом платке. Рядом с ней – учитель села Медведева, чахоточный, сутулый, сухощавый Пантелеймон Павлыч Рощин.
– Путем-дорогой, Анфиса Петровна! Здравствуйте!
Ямщики осадили лошадей. Тройка Прохора в белом мыле, лошади шатались.
– Анфиса Петровна, – вежливо позвал ее Прохор. – Пожалуйте сюда. На пару слов.
Анфиса переглянулась с учителем, молча выбралась из кибитки и тихонько пошла с Прохором по зеленому лугу. Учитель двусмысленно вслед ей ухмыльнулся и стал раскуривать трубку, покашливая.
– Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна.
– Мне этого мало.
– Он подпишет вам все движимое и недвижимое, он положит в банк на ваше имя все деньги...
– Мало.
– Он разведется с моей матерью и женится на вас...
– Мало, мало...
– Я обещаю вам свою любовь...
Анфиса остановилась, губы ее разомкнулись, чтобы злобно крикнуть иль застонать от боли. Но она, вздохнув, сказала:
– Мучитель мой!.. Ах, какой ты, Прошенька, мучитель!
У Прохора защемило сердце. Он покачнулся.
Она окутала его колдующим взглядом своих печальных глаз, круто повернулась, крикнула через плечо:
– Прощай, – и быстрым, решительным шагом двинулась к кибитке.
– Анфиса, Анфиса, стой!.. Последнее слово!..
В голосе его отчаянный испуг. Она остановилась, из ее глаз крупные катились слезы.
– Так и знала, что позовешь меня, – она больно закусила губы, чтоб не закричать, она опасливо обернулась к лошадям: ямщики оправляли сбрую; учитель, хмуро сутулясь, сидел к ней спиной.
Анфиса, всхлипнув, кинулась на шею взволнованному Прохору, шептала:
– Молчи, молчи. Знаю, что любишь... Я ведьма ведь... Значит, отрекаешься от Нинки?
– Отрекаюсь.
– Значит, мой?
– Твой, Анфиса.
– На всю жизнь?
– Да, да.
– Не врешь?
– Клянусь тебе!
Анфиса несколько мгновений была охвачена раздумчивым молчанием.
Но вот прекрасное лицо ее вдруг осветилось, как солнцем, обольстительной улыбкой. Земля под ногами Прохора враз встряхнулась, и его сердце озарил горячий свет любви.
«Что ж теперь будет, что же будет?!» – мысленно восклицал несчастный Прохор, совершенно сбитый с толку и внутренней горечью и внезапно вставшим в нем прежним болезненно-острым чувством к Анфисе.
Возвращаться без учителя Анфиса отказалась. Прохор сразу понял причину: «Боится, что ее документик отберу», – но смолчал. Обратно ехали втроем: Анфиса рядом с учителем, лошадьми правил Прохор. Сзади тащилась пара с ямщиками. Ямщики беспечально заливались:
На сторонушку родную
Ясный сокол прилетел,
И на иву молодую
Тихо, грустно он присел...
Вернулись поздним вечером. Расставаясь, Прохор говорил своей Анфисе виноватым, трогательным голосом:
– Ну что ж мне делать теперь? Каким подлецом я чрез тебя стал... Анфиса, любимая моя Анфиса, милая. Ну ладно! Слушай... Завтра либо послезавтра ночью жди... Сиди у окошка, жди... Прощай, прощай, Анфиса, – и, закрыв лицо рукой, прочь пошел. – Проща-а-ай...
В доме еще не спали. Марья Кирилловна беседовала с Ибрагимом, печаловалась ему, ждала от него помощи.
– Не горуй, Марья... Прошку отучим ходить до Анфис... Моя берется. Моя кой-что знает. Прыстав Анфис взамуж брать будет. Прыстав каждый день, каждый день туда-сюда к Анфис.
Прохор прошел к себе в комнату и заперся на ключ. Комната его пропахла лавровишневыми каплями.
Не спал в своей избе и Шапошников. Сбиралась гроза. Он грозы боится. Во время грозы он обычно спускается в подпол и меланхолически сидит там на картошке. Бояться грозы он стал недавно, лишь этим месяцем гремучим – маем.
Но сейчас гроза еще далече, и Шапошников заводит у себя в избе беседу с волком:
– Люпус ты чертов, вот ты кто. Ты думаешь – ты волк? Ничего подобного. Ты – люпус. Гомо гомини люпус эст[3]. Слыхал? Враки! А по-моему, человек человеку – Анфиса... Да, да. Подумай, это так...
Волк, белки и зверушки слушали внимательно. Волк хвостом крутил, бурундук пересвистнулся с другим бурундуком.
– «Идет», – сказала белка.
– Кто идет? – спросил Шапошников.
– «Хозяин идет».
Хозяин принес в кувшине бражки.
– Испробуй-ка... Ох, и крепость!.. Ты чего-то задумываться стал. Смотри не свихнись, паря... Чего доброго... Это с вашим братом бывает.
Волк, белки и зверушки засмеялись.
Боялся грозы и отец Ипат: прошлым летом, под самого Илью-пророка, его поле ожгло молнией – он долго на левое ухо туг был.
Пристав грозы не боялся, но пуще моровой язвы страшился супруги. Вот и в эту ночь у них скандал. Супруга расшвыряла в пристава все свои ботинки, туфли, сапоги, щипцы для завивания, и все мимо, мимо. И вот вместе с бранью летит в пристава двуспальная подушка. Пристав и на этот раз ловко увернулся, подушка мягко смахнула с письменного стола все вещи. Чернильница, перевернувшись вниз брюшком, залила красной кровью черновик проекта:
«... всесмиреннейшего прошения на имя его преосвященства епископа Андрония, о чем следуют пункты:
Пункт первый. Будучи в семейной жизни несчастным вследствие полнейшего отсутствия всяких способностей законной супруги моей Меланьи Прокофьевны к деторождению по причине сильной одышки и ожирения всех внутренних органов (при сем прилагаю медицинскую справку фельдшера Спиглазова) и в видах...»
Тут рукопись оборвалась, перо изобразило свинячий хвостик, – видимо, как раз на этом слове мимо уха пристава пролетела мстительная туфля, а скорей всего увесистая затрещина опорочила высокоблагородную, однако привыкшую к семейным оплеухам щеку пристава. Конечно ж, так. Пристав писал, жена подкралась, прочла сей рукописный блуд, и вот правая щека пристава горит, горят глаза разъяренной мастодонтистой супруги.
Впрочем, так или не так, но «человек человеку – Анфиса» остается.
Еще надо бы сказать два слова об Илье Петровиче Сохатых. Но мы отложим речь о нем до завтрашнего дня.
А завтрашний день – солнечный. Заплаканное небо наконец сбросило свою хандру; день сиял торжественно, желтые бабочки порхали, пели скворцы.
Утром за Марьей Кирилловной прискакал нарочный: в соседнем селе, верст за шестьдесят отсюда, захворала ее родная сестра, вечером будут соборовать и причащать. И Марья Кирилловна, унося в себе тройное горе, уехала. Первое ее горе – Прохор и Анфиса, второе горе – Анфиса и муж, и вот еще третье испытание Господь послал – сестра.