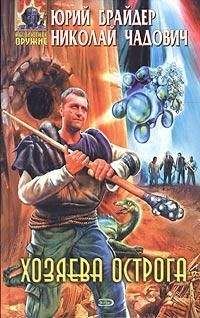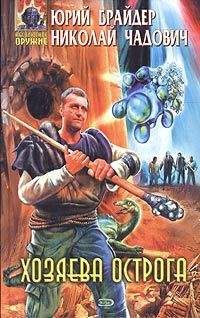Сильно своих холопов он не притеснял, только несколько дивился их дикости и отсталости, а еще их больному воображению. Строя значительные гримасы, выслушивал дикие сказки про каменные города, про большие мосты над большими реками, про большие коляски с колесами, влекомые настоящими живыми животными, на ногах которых есть специальные роговые наросты. Вот какие необычные фантазии! — хвастался дикующий князец перед заглядывающими к нему родимцами.
«Если слезы мои собрать, большую корчагу наполнить можно…», — жаловался, рассказывая, маиор. В тяжкой невольной жизни с Саном сдружился, стали они как схимники, известные особенными подвигами — тел своих почти не мыли, питались рыбой, жили под балаганом, как псы, а дикующий князец Туга будто бы и уважал их, но ведь и смеялся над фантазиями. А еще почему-то во снах стал являться неукротимому маиору Саплину убитый на Камчатке прикащик Волотька Атласов, с которым маиор встречался когда-то в Москве в гостеприимном доме думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева.
Придет во сне, сядет на корточки и молчит.
Глаза синие, светел волосом. Смотрит и жалуется молчаливо. Вот, дескать, маиор, зарезали меня воры, умер без покаяния. И не только жалуется, но еще и укоряет маиора. Вот, дескать, ты — герой свейской войны, человек, сильно отличенный государем, так почему не смог разгадать суть подлого монаха Игнашки? Как укрылся смердящий ад от твоего чистого взгляда? Как мог допустить, что до сих пор ходит по земле подлый убивца?
Маиор сперва защищался: откуда ж, мол, знать мне про то, Волотька? Даже сам упрекал прикащика: ты, Волотька, сам имел в сердце жесточь. Вот Данила Беляев тоже умер без покаяния. А это ты зарубил его палашом.
Убиенный прикащик понимающе кивал светлой кудрявой головой, но твердил одно: убит я.
Совсем замучил.
Маиор даже спать стал бояться.
И боялся, пока не научил его робкий апонец Сан некоторой восточной хитрости. Ты, дескать, когда придет твой мертвец, сразу крикни ему в лицо — ступай прочь, поймаю я твоего убивцу! И когда так научил, стало маиору многое ясно. По крайней мере, окончательно понял, что, наверное, это и поп поганый Игнашка резал Волотьку Атласова среди других. Потому, дождавшись казачьего голову в очередной раз, прямо крикнул в лицо: «Уймись, Волотька! Дай спать. Поймаю я твоего убивцу!»
«Тогда спи, — обрадовался Атласов. — Верю тебе». И загадочно наказал: «Только не привыкай к холопству». Кивнул, и больше не появлялся.
А еще через месяц в бурную ночь, в гневе и в отчаянии, помня наказ прикащика Атласова, неукротимый маиор зарезал ножом глупого дикующего князца Тугу, забрал послушного апонца и некоторые припасы, и, как был в тряпье да с грязным париком на тугой голове, бежал на байдаре в море.
Глава IV. Все украшения земли
1
Прямо днем сорвалась с неба, все вокруг ослепив невероятным светом, яркая, как солнце, звезда. Будто пушка ударила, а потом музыка странная взволновала сгустившийся плотный воздух, темный, но весь изнутри лучащийся призрачным голубым светом.
Длинно вспыхивали, идя к берегу, волны.
Иван перекрестился: считать ли падение звезды знаком? А если считать, то добрый ли знак?
Обернувшись, увидел господина Чепесюка.
Господин Чепесюк стоял на высоком камне, смотрел на море в сторону России, но ничего, конечно, не видел — пусто. Ни лодочки русской, ни апонского паруса, ни даже облачка, чтобы оно было таким же плоским и серым, как облачки над потерянным в пространстве и во времени Санкт-Петербурхом. Стоял господин Чепесюк, молча думал, может, о всех украшениях земли, которые им пришлось увидеть…
А и то, многое видели…
Огнедышащие горы, и морские течения, и стеклянные луны медуз в вечереющих волнах… Островерхие сопки, усыпанные снегом под самое небо, а то целый огромный горный хребет в седом инее, на котором скользят, разбиваются насмерть лошади… А то опять море, так широко открывающееся с такого вот перевала, что от его широты страшно спирает дыхание…
Пожилая птица неспешно присела на ветку корявой сосенки, так же неспешно присмотрелась к господину Чепесюку, и вскрикнула изумленно. Зная привычку господина Чепесюка всегда держаться как бы в стороне, Иван хотел отвернуться, оставить его наедине с пожилой птицей, однако господин Чепесюк перехватил его взгляд. Ничего особенного Иван не отметил, — привычные тьма и бездна, но вдруг пахнуло на Ивана чем-то непонятным, даже ужасным, прощальным, будто, перехватывая его взгляд, господин Чепесюк к чему-то примеривался в Иване, что-то искал в нем.
Сердце защемило.
Вот почему не спит ночами господин Чепесюк? Какую тайну хранит его жестоко изрубленное лицо? Почему именно он послан Усатым искать гору серебра? Почему упала днем яркая звезда с неба? Почему плотный воздух над островом до сих пор взволнован неясной музыкой? Наконец, почему даже неспешная пожилая птица смотрит на господина Чепесюка с изумлением?
2
По неширокой, но нахоженной тропе поднялись так высоко, что берег остался внизу, как бы в провале.
Гора, похожая на заиндевевшую воронку, как всегда, была вдета острой вершиной в белое колечко тумана, а, может, светлого дыма. За нею истаяли летний балаган и полуземлянка сердитого духа Уни-Камуя со всем добром и тремя переменными женами. Всю ночь перебирая немудреное добро, неукротимый маиор в итоге взял с собой только некоторую лаковую посуду, три квадратных пластинки черного серебра с таинственными знаками, широкий веер, расписанный сказочными птицами и растениями, да кривую апонскую сабельку.
Подумав, бросил в мешок единственную имевшуюся у него апонскую книгу: белые рисовые листы, а по белым рисовым листам будто следы странных птиц, на редкость хитрые знаки. Никаких литер, только хитрые знаки. А между знаками немногие рисунки — то косоглазые люди с кривыми, как колеса, ногами, очень хищные на взгляд и нисколько не робкие, даже наоборот; то красивая морская трава, красиво выброшенная волнами на морской берег; то пенный морской вал, пенно и высоко, как гора, накатывающийся на белые пески.
Все остальное добро маиор решил забрать позже, когда будет отбита буса.
Отбирая нужное, впал в олтерацию, несмотря на прирожденную твердость характера. Вот он кто, маиор Саплин? А он, маиор Саплин, военный человек. Он лично государем приставлен к горе Селебен, охранять серебро. Он несколько лет верно несет службу, не жалуется, время проводит не в задумчивых экзерцициях, потому апонцы и перестали подходить к острову. А раз направил маиора Саплина к горе серебра государь, то только сам государь и может снять его с поста. Ведь отправляя маиора на край земли, государь прямо сказал: терпи, дескать! Вот война кончится, пришлю за тобой русский корабль. Тогда горные рабочие пробьют в горе шурфы, нарежут много пластин серебра, а военные люди покорят окрестности. Вот тогда, маиор, можно будет тебе вернуться в Россию.
А где приказ государя? Где военный русский корабль? Не рассердится ли государь, увидев без приказа вернувшегося маиора?
Отчаявшись убедить неукротимого маиора, Иван решил пустить в ход последний самый сильный довод: знаю, знаю, мол, маиор, хочешь задержаться на острове. Только ведь не ради серебра, не гора Селебен увлекает тебя, а дикующие девки! Не хочешь ты оставить некрещеных переменных жен, оттого и не спешишь в Россию!
Сильный довод, но и опасный.
В неукротимости своей маиор мог не посмотреть на то, что Иван его родственник. Вполне мог уколоть кривой апонской саблей или натравить на него воинственную Афаку, а то и всех сразу переменных жен.
Впрочем, обошлось.
Сам господин Чепесюк проявил интерес к маиору.
Неизвестно, о чем говорили господин Чепесюк и неукротимый маиор Саплин, укрывшись за корявой, как жизнь простого казака, сосной. Неизвестно, говорили ли вообще. Но в летний балаган неукротимый маиор вернулся совсем успокоенным. Он насвистывал военный марш и строго прикрикивал на рыдающих Афаку, Заагшем и Казукч, Плачущую. А Ивану крикнул весело: «Повесим скоро попа поганого! Может, завтра!»
Такой срок дал на осуществление мечты.
Сейчас, взойдя на плечо горы, Иван задохнулся.
Так широко распахнулся мир, что уже не вмещался в дыхание. Приходилось жадно хватать воздух губами, но, опять же, не потому, что забрались высоко, под самое небо, а потому, что вид широкого моря, остро разрубленного внизу длинным каменным мысом, пьянил сильнее вина.
А, может, не одно море было?
Может, это два разных моря омывали берега острова?
Может, на юге, там, где вонзались в небо три грозных вершины, посыпанные серым печальным пеплом, голые, без единого кустика на склонах, может, за теми пепельными горами лежала уже Апония? Может, ее видно с тех гор? Может, видны рыжие потрепанные ветрами сосны и каменные города? И робкие жители в халатах-хирамоно, в тапочках на одну левую ногу?