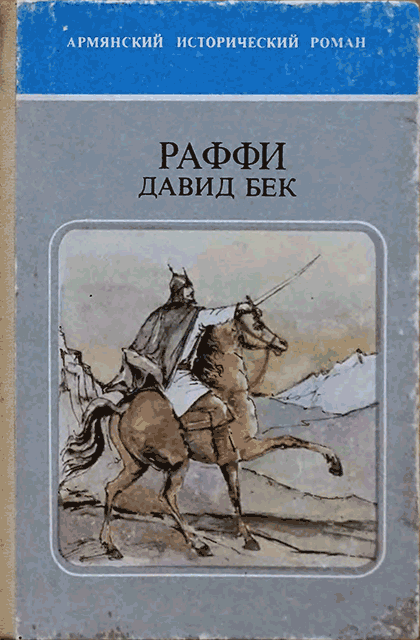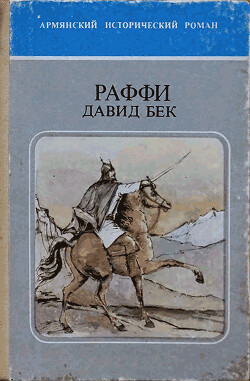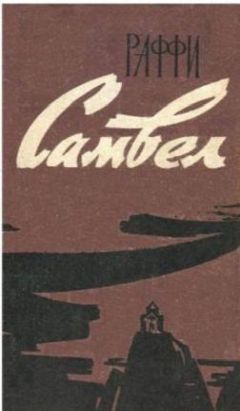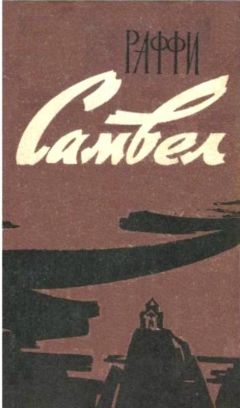утесом Авана.
В нашей истории Аван-мирза известен под именем князя Ованеса [101]. Его называют то князем Гугарка, то Утика, а порой по имени его крепости — князем Большого Сигнаха. Он происходил из древнего армянского княжеского рода, жил в неприступной крепости, воздвигнутой на реке Тартар [102]. Был он человеком строгим, своенравным и гордым. Его сила в основном зиждилась на том, что он держал в постоянном страхе своих врагов. Возглавив союз пяти меликств, Аван-хан объединил весь Карабах, то есть Малый Сюник или Арцах, составив, таким образом, огромную силу. Когда русские овладели Дербентом и Баку, Аван-хан начал вместе со своим союзником Аван-мирзой вести переговоры с Петром I, предложив императору свои услуги и прося помощи для освобождения от власти персов. Вот почему имена этих видных карабахских меликов мы так часто встречаем в старинных русских актах.
Эти два Авана, наши два грозных исполина, приложили огромнейшие усилия для освобождения своей родины — один как умный политик, другой как отважный воин.
Таким образом, в Малом Сюнике (Карабахе), движение уже началось, потому что здесь было главное — союз меликов, А в Большом Сюнике, где намеревался действовать Давид Бек, никто и не помышлял о борьбе, ибо не было единства.
К сожалению, Малый Сюник (Карабах) гражданские и церковные дела вел раздельно от Большого Сюника. Эта раздельность выражалась в том, что пять упомянутых меликств имели свое самоуправление и были независимы от Большого Сюника. Что касается церкви, то и здесь обстояло не лучше — издревле агванские католикосы, митрополиты и епископы имели свою духовную иерархию и не подчинялись Эчмиадзину. И во времена Давида Бека, и прежде Гандзасар был первопрестольным монастырем Агванка. Его пастыри, поначалу епископ Есаи, а позже Нерсес, действовали рука об руку с князем Ованесом. Как в переговорах с русскими, так и в делах военных, светские и духовные власти здесь выступали совместно.
— Надо хотя бы попытаться объединиться с князем Ованесом, — сказал Степанос, видя, что Давид упорно стоит на своем. — Я могу быть полезен в этом, у меня с князем прекрасные отношения.
— Я не противник объединения, пойми, — ответил Бек. — Но ведь ты знаешь, как спесив князь Ованес. Понятно, что он не подчинится мне, да я и сам бы не хотел стать его начальником.
— Тогда надо постараться помирить гандзасарское духовенство с Эчмиадзином.
— Этим уже занимается эчмиадзинский католикос Аствацатур, хотя особых надежд я не питаю, — ответил Бек.
Потом Давид Бек стал рассказывать, как он покинул Грузию под предлогом паломничества в Эчмиадзин, а на самом деле поехал туда, чтобы увидеться с католикосом.
— Аствацатур, — продолжал Бек, — один из самых энергичных и деятельных сторонников «движения». Армяне всегда творили чудеса, когда их духовные предводители объединялись со светскими властями.
— Есть надежный человек и среди местного духовенства, на него можно положиться, — перебил Давида Бека Степанос.
— Кто же это?
— Архиепископ Татевского монастыря Нерсес. Я все рассказал ему, и он с нетерпением ждет твоего прибытия.
— Человеку по имени Нерсес можно верить. В нашей истории люди с этим именем составляли поистине счастливое исключение… [103]
Давно уже зашло солнце, но ни в одном шатре не горел свет. Вечер был ясный, лунный. Вдруг вдали раздался резкий свист. Разговор Давида и Степаноса прервался. Бек внимательно прислушался — свист повторился. В ту же минуту двое всадников на полном скаку въехали в ущелье и направили копей к шатру Давида Бека. То были люди Бека — Гиорги Старший и Гиорги Младший. Они должны были узнать, где находятся кара-чорлу. Бек тотчас же послал слугу за Мхитаром спарапетом и князем Баиндуром.
Когда эти двое пришли, Давид познакомил их со Степаносом и сказал:
— Вот человек, пригласивший нас сюда, — князь Степапос Шаумян.
Покосившись на Степаноса, Баиндур сказал:
— Нас вызвали и мы приехали. Если сейчас же не дадите мне пять тысяч вооруженных воинов, батман-клыч персидского шаха разорвет вас на пять тысяч кусков!
Все засмеялись. В шатер вошли Гиорги Старший и Гиорги Младший, и начался военный совет о предстоящем ночном нападении на племя кара-чорлу.
Было утро, тот предрассветный час, когда тьма еще не рассталась со светом. Дверь архиепископских покоев Татевского монастыря тихо приотворилась, и на пороге появилась фигура высокого монаха. Он огляделся вокруг — никого. Братия еще спала. Монах надвинул клобук низко на лоб и направился к главным воротам монастырской ограды. Укутавшись в тулуп, сторож спал. Монах не стал его будить, вынул из кармана ключ, открыл замок, висевший на железном засове. Большая двустворчатая дверь медленно поддалась нажиму. Он вышел за ограду и вновь запер ворота на ключ.
Рассветная тишина была прекрасной, все вокруг погружено в сладостный мирный сон. Монах посмотрел на восток, скоро ли взойдет солнце. Туман едва начинал рассеиваться. Монах поспешил к высокому холму, взобрался на его вершину. Он стал вглядываться в далекую извилистую тропинку, которая поднималась на монастырский склон. Никого. Неподвижный, как изваяние, стоял он, не отрывая глаз от дороги. Утренняя мгла не позволяла видеть далеко, как он ни напрягал зрение. Знакомых голосов нe слышалось, дорога пустовала.
Монах был высокого роста, в его роскошной черной бороде только начинали пробиваться седые нити. Большие темные глаза на смуглом лице сохраняли живость и блеск молодости. Весь его облик говорил о горячем, энергичном нраве и бесстрашии. Но нынче его огненные глаза выражали беспокойство, свидетельствующее скорее о гневе, чем об отчаянии. «Куда запропастились? Пора бы им быть… Почему опаздывают?..»
Прождав довольно долго, он спустился с холма и вернулся в монастырь. Разбудил сторожа и сказал:
— Не спи! Услышишь стук в ворота — отопри и немедленно дай знать.
— Когда это вы видели, владыко, чтобы Оган спал? — стал оправдываться сторож, протирая глаза. — У Огана один глаз дремлет, другой смотрит в оба — тут и муха не пролетит незамеченной.
Настоятель лишь улыбнулся похвальбе сторожа и удалился, еще раз наказав ему не спать.
Он вошел в келью, зажег свечу и засел за письмо, начатое накануне. Выражение его лица как бы само говорило о содержании письма: время от времени чуть припухшие губы трогала довольная улыбка, в глазах светилось высшее, неизъяснимое счастье. Душа изливала на бумагу, по которой скользило перо, все его заветные чувства.
Через час послышались мягкие звуки благовеста. Монахов звали к заутрене. Настоятель продолжал писать.
Между тем, вся братия уже была на ногах. Один за другим выходили монахи из своих мрачных келий и медленно брели в храм божий на молитву.
Прошло немного